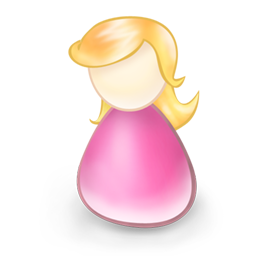Автор – Инна ЛМ
Погибнете ли в Море –
Под тяжестью Волны –
Иль будете в Пустыне
Лежать – обречены –
Или в ворота Рая –
Стучать в несчетный раз –
Не отвяжусь от Бога,
Пока не впустит вас!
Эмили Дикинсон
У моря живущий
Рукавами черпает воду –
Но едва ль не влажней
Рукава у той, что осталась
Здесь, за грядою волн…
Мурасаки Сикибу
Его разбудило солнце, встающее из океана. Ежедневное чудо, такое же, как этот дом, принадлежащий только ему, и бесконечный песчаный берег, и вечное молчание телефона, и другие приобретения трехлетней давности, со временем ставшие тем, из чего и состоит жизнь.
Иной раз трудно отличить приобретения от потерь – всё зависит от точки зрения подводящего итоги. Но есть и кое-что непреложное – например, все лучшие утренние лучи достаются ему; потому что он нашел дом, расположенный так удачно, на вершине холма, обрывом спускающегося к пляжу.
Откинув простыню, он еще понежился в этих лучах, мирно впитывая всем телом свет, как подсолнух. В непрочной рассветной прохладе уже содержалось обещание дневной жары, сухой и ясной погоды на ближайшие несколько суток – он это чувствовал. Отличные дни середины лета…
Надо же когда-то и встать.
Он осторожно подвигал онемевшими за ночь ногами, согнул в колене и распрямил сперва одну, потом другую, и с еще большей осторожностью, выверенной опытом, сел – медленно, упираясь руками в постель. Ноги, особенно левая, не любили резких перемен позы, тем более после ночной неподвижности; и никаких улучшений в этом смысле не происходило, как его и предупреждали. Массаж был такой же непременной частью утреннего ритуала, как умывание: он начинал с тазобедренных суставов и постепенно продвигался всё ниже, настойчиво разминая каждую мышцу, пока она не оживала, давая ему понять, что готова к работе.
Проделывать то же самое со спиной было не слишком удобно, но он приноровился за эти годы. А после того, что вытворяли с ним отдельские физиотерапевты, всё казалось сущими пустяками.
Наконец можно было подняться на ноги, проснувшиеся и послушные; схватившись за спинку кровати – ничего не поделаешь, утро есть утро, попозже они разойдутся – он встал, сделал несколько шагов и присел на подоконник; потом прошелся в обратном направлении, к ванной. Что ни говори, а в пределах дома он прекрасно обходится и без костыля.
В ванной он умылся, привычно не задерживаясь взглядом на собственном отражении, и решил, что бриться сегодня не обязательно. Он никогда не запускал щетину до состояния, когда она превращалась в начатки бороды, но смысла в ежедневном бритье не видел.
А тщательно причесанные волосы очень скоро растреплет и спутает ветер; однако он упрямо отказывался собирать их сзади заколкой или чем-то подобным, хотя они и распущенные всё равно почти ничего не скрывали, и, отправляясь в город, он всегда надевал темные очки. Здесь его никто не видит? Ну и что. Он со школы носил длинные волосы, и они нисколько не мешали ему. А челка на пол-лица возможна только в женской прическе.
Чем бы заняться сегодня? Можно, скажем, починить перила на веранде, заменив пару подгнивших столбиков. В сарае есть подходящие доски, и вторую половину дня можно будет посвятить неспешному плотничанью – работа мелкая и не срочная, но когда-то же ее нужно сделать… «И не забыть купить белую краску, когда поеду за покупками – остатки старой уже никуда не годятся. Если красить, то все перила целиком; значит, понадобится… ладно, потом подсчитаю.»
Он натянул футболку и спортивные штаны, зашнуровал кроссовки и, подобрав валявшийся у кровати костыль, пошел на пляж.
Теоретически эти пробежки должны были быть ежедневными, но это не всегда удавалось, в особенности зимой, когда долгие недели холода и сырости превращали его в бОльшую развалину, чем он считал допустимым. «Понижение атмосферного давления» – думал ли он когда-нибудь, что такая ерунда может хоть что-то значить для него. Унизительной была эта зависимость от погоды даже под крышей, в доме, это глотание таблеток и поиски позы, в которой не столь уж и старые раны будут поменьше напоминать о себе. Но лето несло облегчение и свободу, и ими надо было пользоваться – в том числе и в плане извлечения пользы для своего искалеченного тела. Надо было накапливать запасы сил и энергии, которые пригодятся зимой. Напитаться солнцем…
За все месяцы беспомощно-распластанного лежания в госпитале у него ни разу не возникало чувства, что он превращается в растение – еще и потому, наверное, что растения не испытывают боли. Но вот теперь…
Нытье, позволительное летом, когда с ним легко совладать. Если и давать волю депрессии и саможалению, то сейчас, чтобы они, коли уж совсем без них не обойтись, миновали побыстрее и без потерь.
Без потерь – это важно. Нервы у него уже не те, что раньше. Тоже унизительное, но объективное осознание, с которым приходится считаться.
Бег по влажному плотному песку завершился тем же, чем завершался всегда, если не прерваться вовремя: в левой ноге начинала стремительно нарастать парализующая боль, потом то же самое происходило с правой; мышцы слушались всё хуже, и вот тут-то и надо было остановиться, потому что в следующую минуту левая нога, эта бесполезная негнущаяся колода, откажет окончательно, и ты, споткнувшись на ровном месте, полетишь на песок…
Сегодня он не стал останавливаться.
Что-что, а падать он умел – бросив костыль, перекатился, сгруппировавшись и пригибая голову к груди. Поэтому, кстати, он и бегал здесь, а не вдоль дороги – здесь мягко, а дело слишком часто кончалось падениями из-за его бессмысленного упорства. Утешительно было бы убеждать себя, что с каждым разом он остается на ногах всё дольше – только это не так.
Он отполз подальше от накатывающихся волн и вытянулся на спине, отдыхая. Тяжело дыша, вытер пот с лица, убрал прилипшие к щекам волосы. Теперь нужно просто полежать, пока всё не придет в норму.
Чем еще хорош океан – ничто в его шуме не напоминает те звуки, которые сопровождали его последний бег на здоровых ногах, бесконечный бег того последнего дня предыдущей жизни.
Как-то во время поездки в город он присел в сквере на скамейку, а на соседней устроилась мама с дочкой лет двенадцати. Девочка щебетала о чем-то школьном, и он не обращал внимания на них обеих и тем более не прислушивался к словам, но тут она, увлекшись, заговорила громче:
– …И велели выучить оттуда любое стихотворение, какое понравится. Знаешь, что я выбрала? «My life closed twice before its close».
Женщина что-то сказала ей, но он не слышал – сидел, потрясенный, и мысленно повторял: «Дважды жизнь моя кончилась раньше конца…» Так бывает, когда поэт выразит твою мысль, чувство, ощущение точнее, чем ты сам.
* * *
Слова Шефа перед их отъездом на то задание: «Будь готов ко всему» – он воспринял как абстрактное предупреждение, про себя отметив, что такая эмоциональность не вполне соответствует ситуации, и это странно. А Шеф уже ЗНАЛ – знал от Никиты, выходившей на связь, но не сказал ему – и это никогда не будет прощено. Очевидно, опасались, что их лучший оперативник сорвется с поводка и впервые поставит свои личные чувства выше задания – не сумеет удержаться… Зря беспокоились. Он выполнил всё, и не его вина… Чью вину искать в стечении обстоятельств, которые ты не смог предотвратить, в столкновении двух воль, стремящихся к противоположному, когда побеждает – не твоя? Ты виноват тем, что оказался слабее?
Когда сквозь грохот вертолета он услышал в своих наушниках голос Никиты, говорившей о том, что она видела Симону на базе «Стеклянного Занавеса» и та жива, то поверил сразу, в то же мгновение, которое понадобилось, чтобы осознать ее слова. Три года назад никто не видел Симону мертвой. Все были слишком заняты, выбираясь из засады, чтобы тратить время на поиски ее тела. Он просил разрешения отправиться туда – ему отказали. Он всё равно поехал, это не удалось сохранить в тайне, и неудовольствие начальства не замедлило проявиться – но какое это имело значение, если он не нашел никого и ничего. Он продолжал искать, скрываясь от всех и надеясь, что рано или поздно Отдел выйдет на Спаркса и тогда он будет знать точно… ведь ее не видели мертвой.
Никита встретила их в точке отхода, чтобы провести на базу, и не оставалось ни секунды лишней, он и остальные бежали вслед за ней по нескончаемому лесному оврагу, засыпанному таким толстым слоем опавших листьев, снесенных туда ветром со склонов, что он казался менее глубоким, чем в действительности; они бежали молча, а листья, сухие и пышные, еще не размякшие от октябрьских дождей, оглушительно громко трещали, шуршали и хрустели, сминаясь под двумя десятками ног, и не было слышно ничего, кроме этого шороха…
Ему было довольно знания: «Жива» – и он не благодарил бога, в которого не верил никогда, даже в детстве; кого и стоило благодарить, так это Никиту, по своей инициативе сунувшую нос туда, куда никто не просил… но уверенность в некоей доле справедливости, которая существует в мире и изредка проявляет себя, ожила в нем. И, только когда все они остановились у входа на базу, вынужденные ждать, пока система безопасности завершит опознание по генокоду из образца, выкраденного Никитой, он воспользовался этой краткой передышкой, чтобы спросить:
– Как она?
Никита не обернулась и чуть промедлила с ответом, и одно это сказало ему не меньше, чем ее слова:
– Не очень, Майкл.
Потом был бег по переходам и отсекам бывшего военного бункера, и недолгий бой с людьми Спаркса, и они добрались до главного компьютера и с помощью Беркофа предотвратили то, что должны были предотвратить; и Никита отвела его к камере, где держали Симону… все эти три года…
Она лежала ничком на тонком грязном матрасе и никак не отреагировала на их появление. Когда он разбил выстрелом замок и распахнул решетку, она вскочила с невнятным криком и прижалась к стене в безнадежной попытке спрятаться, скорчившись и выставив вперед исцарапанные руки – пальцы были перевязаны обрывками тряпок, кое-как обкорнанные волосы свисали на лоб (такие же угольно-черные, какими он их помнил – а он боялся найти в них седину, как самое страшное свидетельство вынесенных страданий… словно нет ничего страшнее…); он не видел ее лица – она всё отворачивалась, заслоняясь растопыренными пальцами, и он позвал:
– Симона! Это я, Симона…
Отчего-то стало трудно дышать; он медленно подошел к ней, протягивая руку, еще не решаясь коснуться, оттого что она продолжала вжиматься в стену, и тихо говорил:
– Ты меня не помнишь? Всё в порядке. Ты в безопасности. Всё в порядке...
Он наконец дотронулся до нее, и она, разом обмякнув, сползла на пол, но он поднял ее, обхватив за плечи, прижал к себе… на голых плечах виднелись ожоги от сигарет, и полузажившие ссадины на лице, и что-то пугающе прощупывалось сквозь ткань короткого рваного платья… но она была жива и на ногах, и слышала его, и узнала, – большего он не смел и желать.
– Всё хорошо… Всё хорошо… Ты теперь в безопасности…
Глазам было горячо от стоящих в них слёз, губы дергались, и он почти шептал:
– Я думал, что никогда не перестану тебя искать. Я никогда не прекращал любить тебя. Боже…
Голос сорвался окончательно, и он просто приник к ней, всё еще молчащей, но понимающей, что это он, что он пришел за нею…
К реальности его возвратил выстрел Никиты. Он не заметил противника. Не услышал…
Симона, хрипло вскрикнув, отшатнулась от него, снова закрываясь, прячась – и он снова позвал ее, осторожно дотрагиваясь до поднятой к лицу руки:
– Вернись ко мне, Симона. Вернись ко мне… Я здесь. Всё хорошо…
Но вернуло ее скорее упоминание о Спарксе, чем его ласка – она впервые заговорила, и он наконец-то услышал ее голос:
– Я знаю, где он – в отсеке Б.
Они оставили Симону под лестницей – хоть какое-то укрытие. Нужно было идти за Спарксом, но он всё не мог оторваться от нее, проклиная свое неумение выразить то, что чувствовал… просил ее не двигаться и побыть здесь, ласкал ее щеки, едва прикасаясь кончиками пальцев, а она не сводила с него глаз, почти прежних, и он уже думал о том, что путь обратно – к себе, к нему – окажется для нее не таким долгим и тяжелым, как могло показаться поначалу.
Но времени не было, и он, только и бросив Никите: «В отсек Б… Он мой», – быстро прижался губами к губам Симоны и вскочил на ноги. Осталось доделать совсем немного, и ничьей смерти он еще так не жаждал…
Они опоздали. В том отсеке было пусто, зато снизу донесся полный ужаса вопль, и когда он скатился по лестнице, перемахнув через перила, то не увидел Симоны. Совершенно обезумев, он помчался по коридору на вопли Спаркса, но всё уже было поздно.
Симона заперлась в центре управления внутренними системами. Ее мучитель оказался в ее власти, и этого хватило, чтобы навыки оперативника пробудились в ней – скрученные веревкой кисти Спаркса были надежно привязаны к трубе, выступающей из стены, и отобранный у него пистолет не дрожал в ее руке. Свободной рукой она торопливо и уверенно переключала что-то на пульте, и Спаркс очень хорошо понимал, что она делает, потому что всё сильнее извивался и призывал на помощь.
Заметив их с Никитой, она отвлеклась лишь для того, чтобы крикнуть сквозь зарешеченное окошко в двери:
– Уходите отсюда!
Он пытался ее образумить, кричал и звал, заглушая Спаркса, но не добился ничего.
– Слишком поздно, Майкл. Я уже мертва. После всех этих лет, что они меня здесь держали, мы уйдем вместе.
– Нет, Симона! Нет! Пожалуйста, не делай этого! Не надо! Симона!..
Откуда-то вырвались клубы пара, мгновенно заполнившие тесную комнатушку, он больше не видел ее, но отчаянно дергал решетку, хотя голыми руками тут было нечего делать – не помогла и автоматная очередь в дверь, военные строили на совесть… и услышал ее голос, еле различимый в свисте пара и пронзительном звоне сигнала тревоги:
– Я люблю тебя, Майкл…
Он бился в бронированную дверь и бессмысленно рвал ручку под холодно-вежливый женский голос системы оповещения: «Здание будет уничтожено через тридцать секунд. Это не учебная тревога. Просим эвакуироваться», – а Никита оттаскивала его и трясла за плечи, повторяя:
– Майкл… Майкл…
– «Двадцать восемь… двадцать семь…»
– Ты ничего не сделаешь, Майкл. Где другие?
Да. Другие. Члены команды. Те, что ожидают его приказов.
Он проговорил в передатчик: «Эвакуируйтесь. Немедленно», – и прислонился к двери. Теперь обойдутся и без него. «Что еще могут от меня потребовать?..»
Но Никита не отпускала его, тащила за собой, и тело, хотевшее жить, предало его, и ноги сделали шаг, и еще… был тут и другой инстинкт, вколоченный уже Отделом так же намертво, как и готовность к самопожертвованию – сопротивляться изо всех сил любой смерти, которая не по приказу… сохранять себя для дальнейшей работы. Настойчивее всего это вырабатывали у самых лучших, а он был причислен к ним едва ли не с самого начала…
Ноги двигались независимо от его сознания, преодолевая ступеньки – Никита опять бежала впереди, еще один лестничный пролет в красном свете аварийных ламп и дребезжании звонков, и перед ними открылся сияющий квадрат неба. Он одним взглядом окинул заросшую травой пустошь, убедился, что весь его отряд выбрался на поверхность – без потерь, прекрасно… и повернул назад.
«Уйдем вместе» Симоны относилось не к нему, и она не хотела бы этого – но он больше не мог. Не мог потерять ее снова, едва найдя. За остающиеся секунды он не добрался бы и до той дверь, за которой была она, не говоря уже о новых заведомо нереальных попытках увести ее, уговорить – но успел бы умереть вместе с ней. Пусть не рядом, но вместе…
Он не успел ничего. Даже спуститься поглубже.
Взрывная волна обрушилась на него со всех сторон, оглушая; он свалился от тяжелого толчка в спину, защищенную бронежилетом, потом что-то жгуче-острое врезалось в ноги, сразу отнявшиеся, словно их оторвало (он так и подумал было – несколько дней спустя, когда опять смог думать)… и страшный удар в лицо, который должен был закончить всё.
Не получилось
Ему не удалось ни спасти, ни погибнуть. ОсЫпавшие его обломки бетонных стен и железной лестницы оказались милосердны и оставили его в живых, но он не был согласен на это – пока еще не был. Он не мог даже повернуть головы, вся правая половина которой была замотана бинтами, не то что приподняться – вместо ног было нечто неопределенное, способное лишь на то, чтобы ощущать боль; но руки были целы и действовали. После нескольких безуспешных попыток он сорвал со штатива капельницу, захлестнул ее трубку вокруг шеи и стал затягивать. Но неудачи с недавних пор преследовали его – он был так слаб, что, не вынеся напряжения и едва начавшегося удушья, потерял сознание прежде, чем добился желаемого, и это был обыкновенный бесполезный обморок, а не то, к чему он стремился. После этого на кровати появились фиксирующие ремни, и врачи, оставляя его одного хотя бы на минуту, никогда не забывали привязать его руки.
Дни проходили в молчании, если не считать кратких ответов на чисто медицинские вопросы тех, кто ухаживал за ним. Но это не было ни тишиной, ни покоем. Грохот вертолетных винтов, треск и шуршание палых листьев, свист пара и звон сигнализации надолго поселились у него в голове, раздирая ее оглушительной болью. Во сне они немного стихали, но стоило проснуться… Нужно время, чтобы прошли последствия такой тяжелой контузии, сказали ему. Время могло течь как заблагорассудится – его это не заботило.
Никто не надеялся, что он встанет – и менее всех он сам. Врачи объяснили, что сильные повреждения мышц сопровождаются вдобавок частичным нарушением иннервации, поэтому он не должен рассчитывать на что-то большее, чем инвалидная коляска.
Услышав это, он перестал рассчитывать и на жизнь.
Никому не было известно, куда деваются сотрудники, потерявшие трудоспособность вследствие ранений, или старости, или каких-то других причин… как, например, Колин, парень из его группы, год назад – пуля задела ему голову, они привели его в чувство еще в фургоне, но он не шевелился и ничего не понимал; когда они вернулись в Отдел, то его отвезли в медчасть, и больше Колина никто никогда не видел.
«Но я ведь не безмозглый паралитик – мой разум ясен и не утратил знаний, накопленных за эти годы. Я по-прежнему могу заниматься тактикой, координированием… в Системном секторе работы всегда с избытком…»
Но и там все были молоды и здоровы.
От его желаний ничего не зависело; понимание ситуации было трезвым до безжалостности, и если он и рассчитывал на что-то, так это на то, что у начальства, несомненно, уже ознакомившегося с заключением медиков, достанет честности сообщить ему заранее о ликвидации. Нельзя сказать, чтобы он испытывал потребность как-то подготовиться к смерти – но он хотел знать…
И в такой малости легко могло быть отказано – это он тоже понимал. Ни Шеф, ни Мэдлин пока что не удостаивали его своим посещением, и он всё обреченнее ждал яда в каждом шприце, с которым к нему подходили, и, засыпая от лекарства, не тешил себя надеждой проснуться. Какая разница, пуля или укол… способ волновал его меньше всего.
А порой бывало, что он чуть ли не с нетерпением думал об этом, готовый на что угодно, лишь бы избавиться от мучений тела и души.
Час за часом он лежал, уставившись незабинтованным глазом в светлый потолок, гладкий и чистый, как лист бумаги. В голове шумело и стучало, простыни намокали от пота, белые стены обступали постель, не давая дышать. Маленькая одноместная палата, где он был заперт, являлась ничтожной частицей чего-то гораздо большего – громадного сооружения, бетонно-стального монолита, так непрочно соединенного со стенами вырытого в недрах земли колодца, который вмещал его целиком. Хрупкие скрепы рвались под чудовищным весом, и этот спрятанный от всех мирок оседал всё глубже, проваливался, неостановимо рушился в бездну со всё возрастающей скоростью – тебя вытолкнули из самолета, но ты знаешь, что парашют не раскроется… Лифт отправится в очередной рейс наверх, но вместо солнечного света в раздвинувшиеся двери хлынет лавина грунта и камней, просачиваясь в малейшие щели, вытесняя воздух… И когда-то – как скоро? – последует финальный удар о дно; да и есть ли дно там, куда они падают?..
Кардиомонитор отвечал недовольным писком на его частое, в такт колотящемуся сердцу, дыхание; если не успокоиться, то это привлечет внимание врачей – кто-нибудь придет для проверки, но не остановит его падение, разве что уколом… и кто знает, что ему введут…
«Это надо же – докатиться до примитивнейшей клаустрофобии. Почему же я не могу преодолеть ее, если понимаю, что со мной? Когда я попал в Отдел, то безвылазно пробыл под землей около года – весь срок начального обучения; и не это было самым тяжелым. Так почему теперь…»
Нет, никаких провалов в памяти – она квалифицированно сохранила всё, вплоть до самой последней секунды, последнего удара, который отключил сознание; и здесь, в этой одинокой комнате, лишенной часов и календаря, где время измерялось одной переменой освещения – вместо обычных ламп загорался тусклый ночной свет, не мешающий сну – здесь воспоминания были единственным доступным ему занятием.
Занятием – не развлечением.
Они наплывали беспорядочной чередой, повинуясь явным ассоциациям или неведомым капризам подсознания; некоторые затем перекочевывали в сны, но в общем ни те, ни другие не очень надоедали ему, не задерживаясь надолго в больной голове, будто спеша уступить место чему-то новому.
В частности, вполне логичному умозаключению: его не стали бы так трудолюбиво и настойчиво лечить, если бы намеревались ликвидировать Он в безопасности.
И он понял, что выздоравливает.
Понимание явилось внезапно, вместе с воскресшим желанием жизни, вызвав у него поначалу недоверчивое удивление; а потом он принял всё как есть. Теперь у него и в мыслях не было что-то делать над собой, даже если бы и представилась возможность; и этот перелом в его умонастроении был каким-то образом угадан – его руки освободили от ремней и вообще перестали относиться к нему как к потенциальному самоубийце.
Отдел больше не проваливался, голова мало-помалу утихала; а с ногами дело пошло лучше, чем ожидали… существенно лучше. Что же касается лица, то потрясение было не таким уж и сильным – может, потому, что он был готов и к чему-нибудь похуже, помня тот удар. Во всяком случае, когда сняли последнюю марлевую наклейку и он на ощупь обследовал изменения (предлагать зеркало никто не спешил), то стало ясно, почему среди всех врачебных бесед ни разу не заходило речи о сохранении глаза – даже искусственный вставить было некуда. Но остальное – лишь рубцы на коже, кости целы; хотя что стоило тому куску железа войти чуть глубже или проломить висок…
Нет. С этим покончено… с такими мыслями. Предстоит еще много боли и усилий, но он выбрался и сравнительно скоро будет на ногах; и будет… что?
Да всё что угодно, кроме боевых заданий, и операций-«валентинок», и спортивной подготовки новичков, и всего прочего, где необходимы полноценно работающие мускулы или нормальная внешность.
То, что он какое-то время предавался подобным иллюзиям, само по себе красноречиво говорило о том, что непоправимые повреждения получило не только тело. Но вскоре за него взялись психологи, и от новообретенного оптимизма ничего не осталось: хладнокровная ревизия утрат ужасала. Выносливость, уверенность, концентрация, гибкость – всюду зияли прорехи; но главное – скорость, во всех ее видах и смыслах. Ничего общего со знакомыми ему трудностями восстановления после ранений… это не восстановится никогда. Он никогда уже не станет прежним.
Он боролся и боролся с собственным мозгом, упорно отказывающимся работать так, как должно, – вспоминал уроки Юргена, и то, что сам придумывал для себя, и то, чему обучал других… всё это плохо помогало, но он сражался, не желая отступать, пока не выдохся от явственной бесплодности своих усилий.
И тогда появилась Мэдлин.
Она всегда появлялась вовремя, как никто другой умея выбрать оптимальный момент для своего вмешательства.
В ее недрогнувшей улыбке, легкой и спокойной, одинаковой что в разговорах с Джорджем, что в «белой комнате», не читалось ничего, кроме очевидного факта, что каждый день из этих трех месяцев она находила в своем расписании хотя бы четверть часа, чтобы понаблюдать за ним, не удовлетворяясь одними медицинским отчетами.
Она всегда уделяла ему повышенное внимание.
Он сел в постели – теперь это нетрудно сделать самому, не то что раньше, ноги оживают… а снизу вверх на Мэдлин смотрят одни допрашиваемые – из железного кресла или с пола… Он молча ждал начала и знал, что она одобряет его выдержку… но это одобрение ничего не решит.
– Майкл, пришло время поговорить о твоем будущем. Кстати, ты почему-то до сих пор ни к кому не обращался с такими вопросами. Как ты сам это расцениваешь: как признак слабости, упрямства, безразличия или неготовности к переменам?
Привычный пустой взгляд, которым он ответил ей… вернее, половина, оставшаяся от взгляда – как теперь это выглядит? По-видимому, не менее выразительно, чем прежде.
Сколько перемен он пережил за свою жизнь – и ничто не смогло убить его. Гибли другие, иногда совсем рядом, так близко… а он уцелел. «Я всё еще здесь», как говорил… писал Волк Ларсен* .
Понятию «гордость», среди многих прочих, в Отделе не было места, но не гордость ли запрещала ему поинтересоваться своей дальнейшей судьбой? Или все-таки сочетание всего перечисленного Мэдлин?
– Согласись, что у тебя нет оснований в чем-то упрекать нас. Всему виной была твоя собственная некомпетентность.
– Некомпетентность?
– А как еще назвать преобладание деструктивных эмоций над логикой? Как назвать ситуацию, когда оперативник пятого уровня, возглавляющий группу, настолько забывается, что его подчиненная, оперативник второго уровня, вынуждена напомнить ему о необходимости отдать приказ об эвакуации? Одна жизнь заслонила для тебя все остальные, ты мог погубить всю группу из-за своих расстроенных чувств… не говоря уже о том, что еще до высадки Шеф категорически запретил тебе предпринимать какие-либо действия, выходящие за рамки задания. Учитывая, что срыв операции привел бы к целой серии авиакатастроф, я должна сказать, что от заслуженного наказания тебя спасло только то, что ты так серьезно пострадал.
«И как вы предполагали меня наказать – напрочь отпилить ноги и выбить второй глаз? Что-либо другое вряд ли окажется эффективным…» Ирония – такого он еще не замечал за собой… что-то новое. Внутренняя свобода, поднимающая голову, потому что ей стало тесновато в ее укрытии? Нет, просто слишком много слишком сильной физической боли.
Он произнес тихим бесцветным голосом, каким всегда говорил с начальством:
– Все поставленные перед нами задачи были выполнены в предписанный срок.
– Да, но с минимальным допуском, меньшим, чем требует надежность. Если вечно балансировать на грани последних секунд, то когда-нибудь их не хватит.
«Не трогай мое сердце. Ты не можешь сделать мне больно, но всё равно не трогай…»
– Теперь я в этом убедился.
Не стоит бояться, что Мэдлин истолкует это как смиренное признание неправоты.
– Очень хорошо, – она всё же сделала вид… но не рассчитывая, что он примет это за чистую монету. – В таком случае я могу быть уверена, что ты не будешь никого обвинять.
– Почему вас это так беспокоит?
– Подобный «комплекс обвинения» вредно отразится на твоем душевном равновесии.
«Равновесие. Дивный термин…»
– Я НИКОГДА никого не обвинял.
Даже тогда…
Их ребенок. Их сын. Недолгое отцовство, оказавшееся куда короче, чем ожидание его.
То, что ребенку позволили родиться и не отдали его во внешний мир на усыновление, было просто невероятно. Они – семья, настоящая семья, пусть и в Отделе! Столько составляющего нормальную человеческую жизнь… Они оба были очень молоды, и всё, что изменяло их судьбу, произошло совсем недавно – и вот новая перемена, столь непохожая на все остальные. Они на ходу учились быть родителями и так старались…
Никто не был виноват. Им предъявили безупречное свидетельство о смерти, и они вольны были изучать его днями напролет, снова и снова убеждаясь, что придраться не к чему.
Симона не плакала. Однажды она сказала ему, что еще в детском саду пообещала не плакать и с тех пор не проронила ни слезинки. И он тоже… не умел. Правда, безо всяких обещаний. Отдельный кабинет у него тогда еще не появился, в общем зале все были на виду у всех, на задания они с Симоной, как правило, отправлялись в одной группе, а значит, время отдыха у них тоже совпадало – не снисходительное ли начальство позаботилось об этом, чтобы они могли утешить друг друга… так что всё, что оставалось – запереться в ванной, включить для маскировки воду и, вжимаясь сухим лицом в дрожащие ладони, в тысячный раз заставлять себя не думать и не задавать вопросы… и не сомневаться. Подозрения были губительны, ничто не разрушило бы его душу сильнее. Потому что ежедневно отдавать всего себя ИМ, выполняя ИХ приказы, наблюдать, как Симона делает то же самое, и при этом гадать, причастны ли ОНИ – было вернейшим путем к безумию и гибели. Он знал, что Симона думает так же, хотя они никогда не обсуждали это. Но он чувствовал… и видел, что она справляется с этим лучше, чем он.
Запреты, которые он наложил для себя на всё связанное с теми событиями, оказались весьма действенными; он сумел обуздать отчаяние, точившее разум. Сейчас эти запреты были нарушены, – и Мэдлин не преминет занести это в список его слабостей, свидетельствующих о том, сколь тяжело пережитое им потрясение. Безусловно, она поняла, что он имел в виду, подчеркивая это «никогда»…
Понятое было милосердно оставлено невысказанным. Но застарелая горечь, прорвавшаяся в его сдержанных словах, все-таки отдавала вызовом. И то, что на вызов этот не последовало иной реакции, кроме паузы и легкого вздоха, означало, что его уже не рассматривают как строптивого подчиненного, которого необходимо в кратчайший срок привести к надлежащему повиновению… не воспринимают всерьез.
ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ.
Спасибо Мэдлин, – теперь он подготовлен к тому, чтобы услышать о любом понижении, вплоть до первого уровня… не загонят же его назад в стажеры. По всей вероятности, следует настроиться на Системный сектор, сидение за компьютером рядом со вчерашними новобранцами, – работа на вторых, если не на третьих ролях… неужели это всё, что он отныне может?
– Надо отдать тебе должное, ты прекрасно умеешь держать себя в руках. Я рада, что эта способность не изменила тебе даже в такой сложной ситуации. Но, увы, этого недостаточно… мы не видим перед тобой никаких перспектив.
– Почему?
Вопрос был ненужным унижением – а ненужное здесь не поощряется. Мэдлин заговорила жестче:
– Оперативная работа для тебя теперь недоступна. Роль героя-любовника тем более, если ты нашел время посмотреться в зеркало. Можно было бы подыскать тебе что-нибудь сидячее и не требующее чрезмерного напряжения, но результаты всех неврологических и психологических обследований слишком неблагоприятны. Они однозначно говорят, что в твоем случае сочетание физических и душевных травм таково, что ты больше не способен работать в Отделе – ни в каком качестве.
– Нет… Это не так… я могу… – до чего жалко это прозвучало…
– Ни в каком качестве, Майкл. Тесты показывают, что значительная часть твоих реакций замедлена или неадекватна, и нет никаких надежд на то, что в обозримом будущем положение изменится в лучшую сторону. Во многих случаях ты даже не пытался скрыть это и имитировать требуемое поведение, что представляется мне особенно тревожным симптомом. И дело не в одних суицидных попытках и проявлениях клаустрофобии – ты не подходишь по элементарным показателям, и, я уверена, уже и сам это понимаешь. Одного стремления продолжать работать мало, оно не способно компенсировать всё то, чего тебе теперь не хватает. А мы не можем позволить себе расхлебывать последствия ошибок, которые ты неизбежно будешь допускать из-за своего болезненного состояния.
– Меня признали негодным?
– Да.
Он прямо и бесстрастно смотрел на Мэдлин сквозь осколки своего рушащегося мира. Надо держать лицо. Всё, что он сейчас переживает, для нее как на ладони, но это еще не причина дать чувствам выйти наружу – хотя бы растерянным взглядом, не говоря уж о выражении лица. Никто ничего не должен видеть… всё внутри, только внутри.
И никаких беспредметных споров о своей годности. Его участь уже определена, поэтому Мэдлин и пришла к нему – известить. Он предпочел бы просто дождаться вердикта, но пусть у нее не будет повода вновь заподозрить его в слабости или малодушии.
– И что вы решили относительно моего будущего?
Мэдлин едва заметно приподняла бровь.
– Я думала, ты так и не спросишь об этом.
– Я спросил.
«Небогатый у них выбор. Если всё-таки ликвидация… я узнаю заранее, как и хотел.» Не к месту вдруг вспомнилось из школьного курса истории – некая старуха-графиня, приговоренная по приказу Генриха VIII к смерти лишь за то, что доводилась родственницей то ли Йоркам, то ли Ланкастерам, на эшафоте боролась с палачом, крича, что, если ему нужна ее голова, пусть добывает ее как может… единственная жертва той эпохи, которая умерла протестуя.
А хватит ли у него сил умереть молча? И какое еще сопротивление ему доступно сейчас, кроме крика «Нет!»?
Как хочется жить…
– Мы тебя отпускаем.
– Что?..
– В Отделе уже несколько лет существует секретная программа по возвращению в обычную жизнь тех, кого приходится списывать по состоянию здоровья. Прецедентов пока немного – как из соображений секретности, так и потому, что далеко не каждый человек, проработавший в Отделе сколько-нибудь долго, способен в полной мере адаптироваться к жизни на свободе. Но мы не сомневаемся, что тебе это удастся. Ты пробыл здесь семь лет, но попал к нам уже сложившейся личностью. Твоя психологическая устойчивость всегда была чрезвычайно высокой, а неизлечимые телесные повреждения определенной степени тяжести, как это ни парадоксально, весьма способствуют адаптации. Человек сосредотачивается на конкретных проблемах и трудностях, в том числе и сугубо бытового порядка, и на их преодолении, что отвлекает его от избыточного самокопания. Так что у тебя есть все данные для того, чтобы вести полноценную жизнь вне Отдела.
«Когда что-то рушится, то становится видно то, что прежде было заслонено – этим, выстроенным, казалось бы, несокрушимо. Новая жизнь… Через месяц мне исполнится тридцать – всего-то. Меньше половины… И что ждет впереди? Какие из моих умений теперь пригодятся мне?»
Мэдлин, очевидно, удовлетворенная его реакцией, продолжала:
– Тебе не придется беспокоиться о средствах к существованию – считай это наградой за прекрасную работу на Отдел. Ты сможешь поехать в любую точку мира и поселиться там, где пожелаешь. Главное условие, о котором ты, конечно, уже догадался – никаких контактов с кем бы то ни было из твоего прошлого. Разумеется, Отдел и всё связанное с ним также станет твоим прошлым, как только ты выйдешь отсюда.
Он наконец разжал губы.
– Когда?
– После того как закончится лечение. Врачи говорят, что курс реабилитационной терапии займет около месяца. Затем ты будешь свободен.
Улыбка стала шире, в нее добавилось немного официальной теплоты:
– Шеф просил передать тебе свои наилучшие пожелания. Я присоединяюсь к ним и надеюсь, что у тебя всё пойдет благополучно, как ты и заслуживаешь.
Она дотронулась до кнопки вызова и приказала мгновенно появившейся медсестре:
– Дайте ему снотворное.
– Мне это не нужно, – возразил он, но Мэдлин его мнение не интересовало.
– Наш разговор дался тебе нелегко, и не поверю, будто ты думаешь, что я могла это не заметить. Лучше всего будет, если ты отложишь его обдумывание на потом, а пока что хорошенько отдохнешь… Кстати, с тобой хотела увидеться Никита. Она зайдет завтра.

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Работа не завершена!
Автор
LenNik, Четверг, 17 июня 2004, 12:01:16
 Последние сообщения
Последние сообщенияНовые темы
-
Тигр и журавль/Tiger and Crane/虎鹤妖师录(2023)20
Азиатские сериалы. Дорамы и live-actionDeJavu, 3 Мар 2024, 22:41
-
Тайны Троецарствия/Secret of the Three Kingdoms/三国机密之潜龙在渊(2018)28
Азиатские сериалы. Дорамы и live-actionDeJavu, 23 Янв 2024, 01:17
* * *
Никита переступила порог с надетой заранее храброй улыбкой, которая при взгляде на него… Точь-в-точь как во время ее первого задания – «вывода в свет» на отдельском жаргоне – когда в ресторане он подал ей многообещающе тяжелую коробку в подарочной упаковке и она, счастливо зажмурившись в предвкушении сюрприза, развязала блестящую ленту и подняла крышку… а, увидев, что там, вздрогнула, но удержала-таки полинявшую было улыбку, повинуясь его твердым приказывающим глазам – а то, что вспыхнуло в ее глазах, не заметил бы ни одни сторонний наблюдатель. Гнев, боль, потерянность, разочарование… сейчас он видел их вновь, столь же ясно, как и тогда, плюс ужас и сочувствие во всей силе первого впечатления.
«Отныне первый взгляд на тебя любого не-врача будет именно таким – разве что сочувствия поменьше, а смущенно-брезгливого удивления побольше. Привыкай, и поскорее.»
И всё равно ее реакция не совсем понятна. Он не может выглядеть хуже, чем тогда, когда она видела его в последний раз, помогая (наверняка…) вытаскивать из-под завала, и нести к фургону; да и по дороге в Отдел… Чего же она в таком случае ждала – бесследной регенерации? Неуязвимости, близкой к бессмертию?
Он вспомнил кое-что позабытое и ни разу не всплывавшее в памяти за эти месяцы, а теперь сразу вспомнившееся, едва он увидел Никиту – ее отчаянный крик: «Майкл!..» – когда он повернулся и побежал вниз по ступенькам… последнее, что он услышал перед взрывом. Этот крик стоял сейчас в ее глазах, вместе с гневом и детской обидой на того, кто был воплощением силы и неуязвимости и посмел перестать им быть.
Вероятно, без такого символа не обойтись никому.
Гибель родителей сокрушила его мир и оставила беззащитным, хотя он к тому моменту уже давно вышел из возраста, в котором они воспринимаются всемогущими и вечными столпами мироздания. Но они БЫЛИ такими – он пережил это время, этот опыт. А Никита была лишена всего этого, да и не подозревала, наверно, что подобное ей нужно. Когда он вел ее знакомиться с Мэдлин и она спросила, куда они идут, то он изрек с невозмутимой высокопарностью: «К вашей новой матери», – в ответ на что получил ядовитую усмешку исподлобья: «А вы кто? Папа?» И весь ее вид говорил, что уж ЭТО ей ну совершенно ни к чему.
Всего лишь десятилетняя разница в возрасте, не считая множества других причин и обстоятельств, исключала такое отношение; но тем не менее было что-то… что-то помимо необходимости подчиняться. Ожидание всесилия, всезнания и поддержки – того, кто успеет вовремя и спасет.
Больше этого не будет. Этого подобия дружбы, зародившейся и начавшей немного укрепляться за минувший год.
Никита подошла поближе – ближе, чем Мэдлин вчера – как будто боялась, что у него не хватит сил на громкий разговор. Присесть тут было не на что, кроме его кровати, и она осталась стоять, мужественно борясь со своим лицом, выстраивая улыбку, которая всё не желала складываться. А ему было приятно видеть хоть кого-то, кому он небезразличен просто как человек.
– Привет, – сказала она, и в ее голосе было то же, что и на лице. – Я и раньше просилась навестить тебя, но мне разрешили только сейчас… не знаю, почему.
Он знал – и думал о том, что ей не обязательно вымучивать из себя эту радостную мину. Они поговорят о самом важном, и беседа не затянется надолго.
– Никита… я хотел тебя поблагодарить.
Он надеялся, что она достаточно узнала его, чтобы понять всю силу его благодарности.
Она поняла всё – и сказала про всё сразу, чтобы больше не возвращаться:
– Мне очень жаль…
В голове с ломким хрустом ворохнулись листья.
– Если бы не Отдел, ни у кого из нас не было бы жизни. Какое у меня право чувствовать себя обманутым…
– У тебя есть право чувствовать себя так, как ты пожелаешь, – возразила Никита с непримиримостью, пробуждавшейся в ней всякий раз, когда речь заходила о чувствах… о праве на них. Этого из нее не выбить никакими силами, и как же дорого ей это обойдется… Если не сумел он, то вряд ли удастся кому-то другому – да и срок безвозвратно упущен, ее подготовка завершена. Но он щадил ее…
Никита смотрела на него так, словно пыталась вернуться в тот их разговор в его кабинете перед тем, как она отправилась в «Стеклянный Занавес». Но теперь серьезное и участливое: «Всё еще болит, да?» так и не пошло дальше ее глаз. Теперь он был во всеоружии, и она об этом догадывалась. Тогда их прервали очень вовремя – он позволил себе проявить слабость и, услышав: «Я хочу знать, что ты чувствуешь. Иногда надо довериться кому-нибудь… Я здесь – расскажи», – заколебался. Он был почти готов… до чего же своевременно их вызвали.
Никита – не Мэдлин, но сейчас его страдания для всех – открытая книга; слишком уж очевидная ситуация. И это… нет, такими словами, как «непереносимо», не стоит разбрасываться попусту даже мысленно. Их время миновало, а если и придет снова, то его надо встретить стойко… он не сдастся.
Никита уловила этот отказ, запрет – и безмолвно согласилась с ним. Впредь ни слова о том, что внутри, только о внешних обстоятельствах. О внешнем – безопаснее.
Она кивнула на прислоненные к кровати костыли, на которых он незадолго до ее прихода проволокся единственным пока посильным ему маршрутом – до двери и назад:
– Ты уже ходишь?
– Начинаю.
– А говорили, что ты больше… – она запнулась и сердито встряхнула головой. – Я так и знала, что это всё дурацкие сплетни.
– Почему? – спросил он с интересом.
– Потому что ты – это ты. Разве есть что-то, с чем ты не сможешь справиться?
– К сожалению, есть. Ходить я буду, но не более того.
Вдаваться в прочие детали он не стал, а ей, конечно, и в голову не могло прийти, что проблема не ограничивается ногами. Пусть она и дальше не сомневается в нем, хотя не всё ли равно…
Никита выглядела огорченной.
– Так… тебя переведут в другое подразделение? И на какую должность?
– Меня отпустят.
– Что значит «отпустят»? На свободу?
– Да.
– Не ври!
– Это правда. Мэдлин вчера сказала мне.
– Так вот почему они…
Новость ошеломила ее, но она явно думала не только о нем. То, что для кого-то возможна свобода, пускай и такой ценой, стало для нее подлинным откровением. Хоть бы она не увлеклась тщетными мечтами на эту тему – мечты расслабляют, тем более при нехватке самодисциплины, а это недопустимо. И смертельно опасно.
– Ты покинешь Отдел, навсегда?
Он кивнул.
– И что ты будешь делать?
– Уеду куда-нибудь.
В качестве жизненного плана это смотрелось довольно убого, но он действительно не придумал пока ничего другого, и это было всё, чего он жаждал сейчас; вдобавок от него наверняка потребуют этого, в той или иной форме – слова Мэдлин о «любой точке мира» не были случайностью.
Никиту его ответ удовлетворил – при ее неугасающем вольнолюбии «уехать» представлялось вполне достаточной программой на будущее.
– А куда?
– Я еще не решил.
Она тяжело вздохнула и, ухватив переплетенную черной ленточкой прядку волос, принялась накручивать ее на указательный палец. Когда он был ее наставником, то неизменно делал ей замечания по этому поводу – бесцельные движения отвлекают, на них расходуются силы, пусть и незначительные, а все силы и внимание должны принадлежать Отделу… постоянная полная готовность к работе, и никак иначе. Естественно, столь длинная тирада была произнесена лишь однажды – в дальнейшем хватало одного взгляда, на который она, подчиняясь, всегда отвечала своим – упрямым и вызывающим. Он оставлял ей эту видимость сопротивления, хотя обязан был отобрать всё…
Ему вдруг остро захотелось спрятать от нее свое обезображенное лицо, которое врачи и Мэдлин могли рассматривать сколько душе угодно – их профессиональный интерес ничуть его не трогал. Никита – совсем иное дело; ей одной больно видеть его, и следовало бы избавить ее от этого зрелища – вот только как? Заслониться ладонями или сунуть голову под подушку? Нет уж, спасибо…
Он с усилием припомнил, что в кармане пальто, которое, надо полагать, так и висит с осени в его шкафу в раздевалке, должны лежать темные очки – и удивился тому, что поврежденный мозг озаботился сохранением таких пустяков.
В задней комнате того компьютерного клуба, где они поймали Джей-Би, он сорвал эти очки и положил их во внутренний карман, прежде чем перейти к допросу с пристрастием…
НЕТ. НЕ ДУМАТЬ ПРО ТО. ХВАТИТ.
А об очках надо было побеспокоиться заранее. Теперь уже нет смысла…
– Знаешь, я иногда на всё согласна, лишь бы убраться отсюда куда-нибудь подальше, – проговорила Никита, и ее задумчивый голос был полон горечи. – Не жалко заплатить любую цену, даже…
Она запоздало умолкла, но он продолжил за нее:
– Даже оказаться на моем месте? Никита, это совсем не «даже». Я еще легко отделался.
– Легко?..
– Могло быть хуже, – спокойно произнес он банальную фразу, которая, как и большинство банальностей, была абсолютной истиной. Никто и никогда не услышит от него жалоб и проклятий судьбе; их нельзя облекать в слова даже наедине с собой – стоит начать, и им не будет конца…
Никита выглядела так, словно вот-вот расплачется, и с этим нужно было что-то сделать, – например, перевести разговор в служебное русло. Если она и не успокоится, то по крайней мере разозлится – так или иначе, слёз не будет.
– С кем ты теперь работаешь? – он и правда хотел это знать.
– С Лестером.
«Лестер так Лестер… предсказуемый выбор, против которого трудно возразить. Если бы я сам искал себе замену, тоже, по всей видимости, остановился бы на нем.»
– Когда его назначили на мое место?
– Сразу же после того, как ты… как тебя ранило. Он принял командование как второй по рангу в группе, а потом его так и оставили. До тебя ему, конечно, далеко, но он хороший командир.
«Никогда мне не стать главным стратегом. Не сказал бы, что это тянуло на мечту, но я стремился к этой должности, зная, что скоро дорасту до нее и начальство это поймет. Быть лучшим, раз нельзя быть самим собой… кем я буду теперь? Только и остается, что самим собой – но каким?..»
– У Лестера ты существенно улучшишь свои показатели и тактические навыки. И главное, в чем ты нуждаешься – это избавиться от излишней эмоциональности.
Оба зайца были убиты наповал – от его безусловно дельного совета она так и вспыхнула.
– Давненько ты не беседовал со мной в стиле «заткнись и слушай наставника».
– Я прикрыл тебя в истории с Мейовичем, сфальсифицировав отчет. Лестер ничего подобного делать не станет.
– Ты тогда спас мне жизнь, если помнишь, – возразила Никита. – Это немножко поважнее липового отчета.
– И я хочу, чтобы ты жила. Я хорошо обучил тебя, но ты должна еще поработать над собой, и в первую очередь над тем, о чем я сказал, если намерена выжить в Отделе. Твое будущее связано с ним, хочешь ты этого или нет.
– А о своем будущем ты думал то же самое?
«Она не боится причинять мне боль… совсем как на тренировках. Это хорошо…»
– Черт возьми, Майкл, ты же пытался убить себя! Не тебе учить меня выживанию. И я ни за что не стану такой, чтобы не суметь нормально существовать на воле, если мне когда-нибудь выпадет случай вырваться отсюда.
– Ты считаешь меня таким?
– Не знаю, – проговорила она неожиданно тихо. – Я плохо знаю тебя.
Ее недолговечная ярость уже испарилась, и вид у нее был немного виноватый.
Никита подошла вплотную к кровати, нерешительно покосившись на его ноги, прикрытые простыней. Если отодвинуть их хоть на дюйм, она воспримет это как приглашение сесть рядом, что совершенно ни к чему. Поэтому он не шевелился, заставляя себя не отстраняться от нее, что было не так легко. «Интересно, кому из нас сейчас тяжелее не отвернуться?» Никита смотрела ему в лицо нестерпимо прямым взглядом, и он наказывал себя этой скорбью в ее таких знакомых голубых глазах, потому что было за что… Но если она думает, что утешает его, то заблуждается – ей это не под силу, как, впрочем, и кому бы то ни было другому; утешение можно обрести лишь в своей душе, и никто ему здесь не помощник.
Будущее… Оно имеет свойство день за днем незаметно превращаться в настоящее; ты приучил себя не загадывать наперед и ограничивать свои повседневные планы безупречным исполнением того, что тебе поручено – но внезапно наступает миг, когда это настоящее обрывается, и мелкие привычные планы теряют всякий смысл, и ты оказываешься лицом к лицу с необходимостью строить нечто совсем новое из немногих сохранившихся обломков, пригодных для этой цели, и спешно искать недостающие материалы – где и как сумеешь…
Этим проще заниматься в одиночку – когда ни от кого не зависишь, то ты свободен и нет соблазна в чем-то винить других; а когда никто не зависит от тебя, то ты никого не подведешь…
«В этом отношении условия оптимальные. И опыт такого строительства у меня есть.»
– Ты обиделся? – пробормотала Никита. – Извини… зря я наговорила всё это, насчет выживания. Просто мне так жалко, что ты уходишь.
Она до того неправильно истолковала его молчание, что он даже улыбнулся – и изумился этому не меньше, чем она. «Я уже могу… или еще, по инерции? Новая это улыбка или из старых запасов?»
Для Никиты же она стала доказательством прощения и того, что ее слова не слишком задели его. Она заметно приободрилась и, по-видимому, тоже задумалась о его будущем – о чем-то кроме «уехать», потому что спросила:
– Чем ты занимался до Отдела?
– Учился в Сорбонне, – ответил он общедоступную часть правды.
Никита не казалась удивленной – наверно, она и ожидала услышать что-нибудь в этом духе.
– Значит, у тебя есть нормальная гражданская специальность?
– Нет, я не кончил курс.
Следующий вопрос был очевиден:
– А как ты попал в Отдел?
– Это закрытая информация.
– Скажи хотя бы: ты был невиновен, так же как и я?
Собственно говоря, он обязан был повторить свой предыдущий ответ, – и какое ему дело до ее подозрений и домыслов. Но ей это важно… очень важно. Так почему бы не одарить ее на прощание еще одним кусочком правды о себе.
– Нет. По моей вине погибли люди. Несколько человек.
Если сопоставить с тем, скольких он убил за семь лет в Отделе… Но среди убитых здесь не было невинных.
«Случайно оказавшиеся причастными» - безграничная по своей широте формулировка, рассчитанная на то, чтобы вместить в себя оправдание всего, любых побочных обстоятельств.
К примеру, смена уборщиц, понятия не имеющих о том, чем занимается фирма, в несекретных помещениях которой они каждую ночь моют полы… А спугнуть их пожарной сигнализацией – стопроцентный провал задания и всё новые и новые жертвы неуловимых клиентов этой самой фирмы, как раз сегодня приехавших за крупной партией товара…
Такое случалось – и долгая практика научила его отключаться от всего мешающего. Но… Что-то остается. Что-то всегда остается – саднящей крупинкой в глубине.
Как и то, с чего всё началось.
Никита поняла по его непререкаемой интонации, что тема закрыта, и не стала спрашивать: «Что ты сделал?»
Подступил момент, когда беседа исчерпывает себя; Никита молча постояла, отведя глаза, а, вновь подняв их на него, произнесла с какой-то забавной девчоночьей робостью:
– Ты не хочешь еще поговорить?
– Нет, – отрезал он.
Продолжать определенно незачем – он сказал всё, что собирался… и опять начинает болеть голова. По сравнению со вчерашним разговором этот – настоящий отдых, но всё же… «Мне нужно побыть одному.»
Он как раз намеревался попросить Никиту уйти, но она опередила его вопросом:
– Когда ты уезжаешь?
– Через месяц.
– Мы еще увидимся с тобой до этого?
– Не думаю.
– Тогда давай попрощаемся…
– Прощай, – его голос звучал безукоризненно ровно. «Пусть она запомнит меня таким, каким знала всегда, а следы катастрофы останутся чисто внешними… это облегчит ей расставание со мной.»
– Прощай, Майкл.
Никита протянула руку, и он с опозданием (немыслимым раньше… всё то же, проявляющееся снова и снова…) вскинул свою, чтобы предотвратить прикосновение, которое, как ему показалось, будет более ласковым, чем он бы хотел; вряд ли можно было назвать рукопожатием это неловкое столкновение ладоней… Никита тихонько стиснула его пальцы и не сразу разжала руку, – но обошлось без излишних слов и взглядов.
Белая дверь закрылась за ней, и он подумал, что облегчение и одиночество неразделимы. «Особенно теперь.» А Никита… В ней гораздо больше силы и жизнестойкости, чем она сама подозревает. Она выстоит и одна…
* * *
О нем опять забыли все, кроме врачей, и это было отрадно. Его душу в кои-то веки оставили в покое – теперь тех, кто занимался им, интересовало исключительно его тело, а на содержимом головы был поставлен крест. Он охотно принял новые условия и был самым аккуратным и послушным пациентом, с неизменным старанием выполняя всё, что ему велели. Он всегда умел терпеть боль, и долгие изнурительные тренировки, выжимающие из тела всё, на что оно способно, тоже были ему более чем знакомы.
Врачи не ошиблись с прогнозами – прошел месяц, и стало ясно, что дальнейшего прогресса не будет. «Возможны незначительные улучшения через несколько лет, но не слишком рассчитывайте…» Хорошо отработанная невозмутимость успешно скрывала разочарование, которое он смог перебороть не без труда. Он ждал чего-то большего, хотя два костыля свелись к одному, а ноги не были перекорежены и выглядели вполне пристойно, особенно пока стоишь на месте. Но знать, что это – на всю жизнь, и никогда и ничем не исправишь…
Жизнь, которую надо чем-то заполнить.
«Нежданный дар… вознаграждение… плата… выигрыш в лотерею?.. Я справился с неволей, – справлюсь и со свободой.»
Этим утром он мог идти куда пожелает.
Ему принесли его одежду, а также пакет с новыми документами и кредитными карточками. Он заглянул в паспорт. Майкл Стэниер. И новая фотография.
Очки никуда не делись из того кармана; примерив их перед зеркалом, он заключил, что стекла достаточно затемнены, но узковаты, и нужно купить что-нибудь более подходящее. И заправлять волосы за уши не стоит.
Никогда еще он не был так рад тому, что от медчасти к наружному лифту ведет отдельный коридор, которым можно пройти, минуя центральный зал и другие помещения – у него не было ни малейшего желания ползти сквозь строй жалеюще-любопытных взглядов… чего, однако, не удалось бы избежать, если бы начальство вызвало его к себе. К счастью, этого не произошло – вероятно, сочли, что первой и единственной беседы с Мэдлин довольно для прощального напутствия.
Заходить в свой бывший кабинет и подавно незачем – там нет ничего личного, ни единой вещи, которую можно было забрать, когда у кабинета сменился хозяин; это всего лишь место, где он работал – и пользовался относительным уединением, если забыть о видеокамерах под потолком, о которых он никогда не забывал. И Лестер, занявший это место, тоже не привнесет туда ничего своего – всё личное должно быть только в голове, хотя и это не полная гарантия неприкосновенности, учитывая квалификацию здешних психологов…
«И от этого я избавился – от постоянного копания в моих мозгах, всевозможных проверок, анализа, испытаний различной степени жестокости. Ничего этого больше не будет. И что произойдет со стенами, которые я выстроил, пытаясь защититься? Может быть, то же самое, что и со всеми устаревшими оборонительными сооружениями – когда исчезает опасность, от которой они ограждали, город постепенно перерастает их, выплескиваясь за былые пределы… И насколько я изменюсь?..»
Он не намеревался прощаться ни с кем, но там, где коридор сворачивал к лифту, его поджидали.
Человек, с которого для него начался Отдел. Тот, кого он первым увидел здесь, открыв глаза в странной белой комнате без окон, не похожей ни на камеру, ни на лазарет («Ведь я не болен… что же мне вкололи?»)… тот, кто первый назвал его Майклом, так что он, одуревший от снотворного, вяло предположил, что его за каким-то чертом перевели в британскую тюрьму…
«Уж не традиция ли это, сложившаяся за время осуществления той секретной программы – провожает непременно тот же, кто некогда встретил?»
Традициям не укорениться там, где всё подчинено правилам и приказам; любой ритуал – это разновидность принуждения, которого и так хватает с избытком. А этот человек свободнее многих.
Наставник. Применимо ли тут понятие «бывший»?
– Здравствуй, Майкл.
– Привет.
За годы, прошедшие после того, как окончилась его стажировка, он виделся с Юргеном считанные разы – случайные встречи где-нибудь в коридорах и еще более редкие совместные совещания, когда Особый отдел привлекали для консультаций; и всё их общение ограничивалось таким вот нейтральными взаимными приветствиями – равных. Не связанных ныне друг с другом. Но сейчас в голове колотился нелепый призыв, исполненный бессильного укора: «Где ты был раньше? Когда ты учил меня, то узнал как никто другой… так неужели у тебя не нашлось в запасе урока, который помог бы мне возвратиться к жизни быстрее, чем у меня получилось? Или ты решил, что теперь тебе не заставить меня его усвоить? А тогда, натаскивая столь многообещающего новичка, превращая его в того, кем он стал в конечном итоге, - почему ты не сделал его еще сильнее и совершеннее, чтобы он смог остаться таким, несмотря на всё выпавшее на его долю?»
Нет… упреки несправедливы. Отчаянию, породившему их, нельзя давать права голоса. «Юрген определил потолок моих возможностей и вынудил меня достичь его. Большее было не в его силах – в то время. А сейчас он тоже кое-что сделал для меня… я знаю.»
– С тобой обсуждали?..
Он замешкался, подбирая слово, которое должно было идти после «мое»: «списание», «освобождение», «будущее» – каждое из них по-своему правильно, и всем чего-то недостает; и ни одно ему не нравится – по разным причинам. Но можно и не произносить ничего – и так понятно.
– Они спросили мое мнение, и я очень рад, что его учли.
– Меня собирались ликвидировать?
– Нет.
– Ты настоял?
– Выражение «настоял» тут неуместно.
Эта каменная манера держаться заметно отличается от его собственной. Юрген пришел в Отдел не таким молодым, как он, и с куда большим душевным и интеллектуальным багажом, далеко не исчерпывающимся службой в войсках особого назначения. В нем так много спокойствия и свободы… жизни… что когда-нибудь это неизбежно сделает его уязвимым, тем более что тому объективному обстоятельству, которое обеспечивает ему уникальную для Отдела независимость, не позволят существовать вечно… «Рано или поздно Юргена одолеют, но я уже не буду свидетелем его крушения, и это хорошо. Пока же всё то, чего в нем слишком много, не только не вредит его силе, а наоборот…»
Юрген медленным и аккуратным движением снял очки, как делал всегда, желая получше всмотреться в собеседника и не упустить ни единой значимой детали, малейших оттенков выражения – и потянулся к его лицу.
Что удержало его от того, чтобы перехватить руку Юргена, ведь намерения были столь ясны? Память о тех временах, когда Юрген обучал его, беспощадно подгоняя его тело и душу под критерии Отдела?.. «чтобы я выжил здесь и сохранил себя. Он тоже оставил мне нечто, без чего я превратился бы в машину, как большинство других, – не потому ли, что не мыслит без этого и своей жизни? В ту пору он мог прикасаться ко мне как пожелает… делать всё, что сочтет полезным.»
Их жестокие схватки. Вкус крови во рту, пропущенные удары – каждый раз он что-то да пропускал, наставник превосходил его во всем… страшная боль в треснувшем ребре, бог знает какое по счету падение… и холодное: «Вставай. Продолжаем.»
«О да, это пошло мне на пользу. Теперь я поднимусь всегда…»
Темные очки остались в руке Юргена; долгое внимательное изучение – не шрамов, а того, что внутри, на недосягаемой, хотелось бы верить, глубине (а вера-то до смешного тщетная…) – невозможно выдерживать равнодушно как раз потому, что этот человек видел его всяким – и слабым, и близким к помешательству от ужаса и отчаяния… и в каком-то смысле единственный, кто заслужил право на его откровенность – на допустимую ее долю.
«Равнозначна ли откровенность доверию? То, что я позволил ему… это уже говорит само за себя. Но слов не будет. Всё, что он разглядит во мне – всё его; но ничего сверх этого. Его никто не посылал сюда, он пришел, так как я что-то значу для него, – но это не означает, что я готов разговаривать с ним о себе. Даже с ним… И он всё прекрасно понимает и ничего не ждет от меня.»
Легкая усмешка Юргена прервала состязание в бесстрастности, и была в ней не уступка, но уважение: «Ты всё тот же…»
– Тебе выпал редчайший шанс – ты наконец-то сможешь уделить максимум внимания своему внутреннему миру, отбирая из внешнего только те элементы, которые захочешь. И не бойся того, что найдешь в себе – что-то ты преодолеешь, с чем-то примиришься, и результатом будет обретение такой духовной гармонии, на какую ты не рассчитывал никогда.
Он знал, что недоверие не отразилось на лице. Гармония, душевное равновесие – это всё в некоей непредставимой дали. Для начала ему хватило бы и чего-нибудь менее недостижимого – покоя… Покой – это отсутствие боли. Не так уж мало…
Юрген не мог не ощутить его несогласие.
– А если ты опасаешься, что внутри у тебя так пусто, что не с чем будет жить, то это не так. Твоя личность уцелела, и ты не предашь ее. Жизнь продолжается.
– Неужели?
И как у него это вырвалось…
– Да, обыкновенная жизнь, которой не будет распоряжаться никто, кроме тебя самого. Ты справишься, поверь. Сейчас ты еще в шоке, но когда начнешь приходить в себя, то увидишь, что я прав.
«До чего странно – через несколько минут, когда я переступлю этот порог, все люди, которые знают меня и в той или иной степени понимают, пусть даже от этого понимания мало радости – все они уйдут в прошлое… а здешнее прошлое – это исчезновение навечно. И та часть меня, которая существовала лишь в этих стенах, специально созданная и доведенная до совершенства с безжалостной заботой, исчезнет тоже… такая огромная часть. Всё равно что кусочек смерти и последующих похорон.
Однако же как часто в последнее время звучит слово «жизнь» – и в устах тех, кто обращается ко мне, и в моих мыслях… в мыслях, пожалуй, еще чаще. Весьма показательно…»
Вот он стоит у черты (преграды вполне материальной, если считать ею двери лифта), за которой начинается эта самая жизнь – и чего ему хочется больше: оттянуть или ускорить свой уход? И что будет бОльшим слабодушием?
«Пресловутая неготовность к переменам – пройденный этап. И я устал от собственных сомнений и вопросов и хочу наконец увидеть небо.»
Он забрал у Юргена свои очки и надел их, не говоря ни слова; две-три минут ожидания лифта – и он ступил в кабину и, подняв руку к нужной кнопке, услышал за спиной:
– Adieu, Michel.
Он медлил, потому что должен был что-то сказать этому человеку, перед тем как расстаться с ним навсегда; поиски подобающего слова длились недолго – лучшего не найти, и оно содержит в себе всё:
– Спасибо.
Он произнес это, полуобернувшись ради прощального взгляда на того, без чьих уроков не дожил бы до сегодняшнего дня; и ответом его признанию была серьезная улыбка Юргена, но не она стала последним впечатлением от Отдела, а серый металл стенок лифта, понесшего его вверх.
* * *
Необходимость покинуть квартиру, в которой он прожил все эти семь лет – сначала один, потом с Симоной, потом… потом снова один – не вызывала особых чувств. Квартира была комфортабельной, тихой и предусмотрительно располагалась неподалеку от Отдела, как жилье любого оперативника; и это всё, что он мог о ней сказать. Он не стремился возвращаться сюда после заданий, если проще было выспаться в «комнате отдыха», а поесть – в каком-нибудь кафе; после исчезновения Симоны он очистил квартиру от всех следов их совместной жизни, и она окончательно превратилась в подобие гостиничного номера с его безликой функциональностью. Предметы обстановки и всякие хозяйственные мелочи, неизбежно накапливающиеся с годами, ровным счетом ничего для него не значили, поэтому собрать вещи было очень легко, и на это ушло совсем немного времени.
Всё уместилось в дорожной сумке, которую он брал с собой, когда уезжал куда-нибудь на выходные или в отпуск: кожаная куртка, свитер, смена белья, документы, зубная щетка и пара упаковок аспирина – этим практически исчерпывался его багаж. Вообще-то не было никакой нужды отбывать столь скоропалительно, но он не видел причин задерживаться; сидеть здесь в ожидании неизвестно чего было полной бессмыслицей, а начинать заново надо где-то в другом месте.
Он даже не снял пальто, когда вошел, так что одеваться не пришлось. Повесить на плечо сумку и захлопнуть дверь – вот и всё. Завтра же квартиру освободят от того, что в ней осталось, а в один прекрасный день тут поселится очередной новобранец, который успешно завершил свою подготовку и получил право жить в городе.
«Любая точка мира? Ее выбором я займусь позднее, а прямо сейчас отправлюсь… да, именно туда – посмотреть по-настоящему на тех, кого видел только на экране компьютера. И плевать на предупреждение относительно «контактов» – без этого я не могу уехать. Просто не могу. Мне нужно это тайное прощание… встреча, о которой не будет знать никто, кроме меня.»
* * *
Прежде он не бывал в этом городке под Парижем, где поселилась сестра после замужества, и сейчас разглядывал фасад маленького опрятного домика, зажатого между куда более внушительными соседями, с нетерпеливым любопытством, выискивая отличия от виденного ранее изображения. В реальности домик выглядел ничуть не хуже, чем на компьютере, и совсем не изменился по сравнению с прошлым годом, разве что подвесная ваза, из которой летом свисали пышные плети настурций, пустовала – для цветов еще слишком рано. В узких простенках между крыльцом и окнами нашлось место двум аккуратно подстриженным туям в новеньких кадках, и дом, несмотря на скромные размеры, всем своим видом говорил о семейном уюте, спокойствии и надежном достатке.
«Спасибо Рене… Где-то он сейчас?..»
В машине, поставленной наискосок через улицу для удобного обзора, пришлось просидеть около двух часов. Сегодня воскресенье, а пасмурная погода – всего лишь остаток пролившегося ночью дождя; должны же они выйти на прогулку.
Дверь домика открылась, и он, приопустив боковое стекло, схватился за лежавший наготове бинокль. И увидел всех троих.
Сестра скатила на тротуар коляску, которая пока что была не нужна, – ее муж сразу же усадил сынишку себе на плечи. Трехлетний малыш весело смеялся и, энергично размахивая руками, бесстрашно наклонялся с высоты папиного роста, норовя дернуть маму за длинные полосы. Он заметно подрос за этот год…
Жадно изучая лицо сестры, такое радостное и оживленное, он убеждался, что мирное счастье – самое привычное для нее состояние, повседневная атмосфера, в которой она живет. «Как прекрасно, что у нее есть всё, чего я желал ей. Всё, кроме меня.»
Когда он видел ее вот так, во плоти и крови, последний раз, она тоже радовалась – сдержанно, но тем не менее чрезвычайно откровенно – очень довольная, как и положено четырнадцатилетней школьнице, тем фактом, что он уезжает по каким-то там своим делам на целых полтора дня и, следовательно, вся квартира в ее распоряжении, – ее и всех ее закадычных подруг, уже приглашенных в гости. И они смогут всласть наобщаться, и на них не будет давить присутствие мрачного студента, который сидит в своей комнате, обложившись университетскими учебниками, и время от времени рявкает из-за закрытой двери, требуя сделать музыку потише и вообще снизить уровень шума. «– Сейчас всех разгоню!» «– Да вы не обращайте на него внимания, это он не всерьез…»
Одно было хорошо в его аресте – то, что это произошло не дома. Не у нее на глазах. И она не увидела, как его избивают – а чем еще могла окончиться заведомо неравная, но яростная борьба одного безоружного с тремя полицейскими агентами…
Впоследствии ему вменили в вину и это – «активное сопротивление при аресте», дополнительное отягчающее обстоятельство… одно из тех, что заставило Отдел заинтересоваться им как кандидатом в новобранцы.
На суде, на котором девочке-подростку, слава богу, нечего было делать.
«Она была до того потрясена, что не пришла ни на одно из немногих разрешенных свиданий… я и тогда не сомневался, что это только к лучшему, хотя мы так и не встретились больше. Неважно, – ей не стоило видеть меня в тюрьме, ребенку такое слишком тяжело. Рене увез ее туда, где мог позаботиться о ней, как и обещал, и она обо всем узнавала от него – о приговоре, который я и сам осмыслил не сразу… помню мелькнувший в голове идиотский вопрос: «Пожизненно – это сколько лет?»… о том, что я умер в первый же месяц заключения. Не знаю, что он рассказывал ей про меня, про то, чем мы занимались – но, я уверен, не сказал ничего такого, что ужаснуло бы ее или заставило разочароваться во мне. У нее была поддержка – его бесценная поддержка, без которой она бы не выжила… раз брат оказался не таким хорошим опекуном, как рассчитывал.»
Сразу после школы она вышла замуж за молодого шеф-повара, вскоре у них родился ребенок… Все перенесенные потери не отравили ее душу и не помешали стать счастливой. «Прежде я не задумывался о том, много ли у нас общего – теперь, когда мы оба стали вполне взрослыми людьми. Но его не может не быть при таком близком родстве, даже несмотря на бесконечное различие жизненных путей. Она ли получила частицу моей стойкости, я ли должен искать в себе ее способность исцеляться от боли новой радостью?..»
Он смотрел, как она, смеясь, бережно выпутывает свои волосы из пальчиков сына, и вспоминал услышанное от нее десять лет назад: «Со мной всё кончено».
* * *
Он явился с работы, усталый как черт, как раз вовремя, чтобы разбудить ее перед школой и успеть по-быстрому ополоснуться под душем, прежде чем она вылезет из постели и затребует себе ванную, где и запрется минут этак на двадцать ради не поддающихся его мужскому пониманию священнодействий с заколками и бантиками. Удалось даже побриться, поскольку традиционного утреннего «Мишель, пусти меня в ванную!» сегодня почему-то не прозвучало. И сейчас они молча сидели напротив друг друга, поглощая то, что для нее было завтраком, а для него… как называется трапеза после ночной смены? Завтрак – это всё-таки начало трудового дня и не предполагает последующего сна… долгого-долгого… «Нет, не очень долгого – чтобы не только почитать хоть что-нибудь к завтрашнему семинару, но и отремонтировать наконец стиральную машину, а для этого нужно купить шланг, потому что латать старый уже невозможно… а если я хочу поехать с Рене на ту забастовку, то надо что-то сделать с мотоциклом… накопить на новый в ближайшие год-два нереально, значит, буду поддерживать этот в рабочем состоянии столько, сколько сумею… завтра переберу в очередной раз двигатель… тот парень из нашей группы даст мне поработать в своей мастерской, там можно будет…»
Он оторвался от тарелки, чтобы взглянуть на часы.
– Давай собирайся, а то опоздаешь.
«Обычно ей не приходится напоминать. С ней нетрудно, вот если бы только она не росла так быстро – к зиме точно понадобится новое пальто, а обувь…»
– Я не пойду в школу.
Он удивленно поднял голову. Если подобное и бывало иногда, то не иначе как в форме «Мишель, ну пожалуйста, а можно я сегодня…» – на что следовал его отказ, решительный и суровый. «Не пойду» – это нечто новенькое… уступать тут нельзя.
– Это еще почему?
– Не пойду, и всё.
– Ты что-то натворила?
Училась она прилично, а с дисциплиной и подавно не возникало проблем, если не считать опозданий, – довольно редких, надо признаться. И он даже представить не мог, что она способна выкинуть что-нибудь такое, что побоится на другой день идти в школу.
– Нет.
– Тогда в чем дело?
Молчание. И вид не виноватый, а несчастный.
«Может быть… Ей уже двенадцать, в таком возрасте становятся девушкой. Если причина в этом, то надо дать ей ту книжку для девочек, которой я благоразумно запасся еще в прошлом году, и купить в аптеке эти женские штуковины – сама она, конечно, поначалу постесняется… Знать бы еще, как их выбирают. Придется проконсультироваться у продавщицы. Так и скажу: для младшей сестры.»
Он уже собрался заговорить на эту тему, как она произнесла:
– Со мной всё кончено.
Недетски горький тон испугал его не меньше, чем слова, – отголоском его собственной злости, которая жила в нем постоянно, оставаясь вечным фоном всех его мыслей и чувств, пусть и не примешиваясь к ним явно, но и не угасая – злости на всех и вся, на этот поганый мир, из которого самые лучшие люди уходят, оставляя своих детей в одиночестве, только из-за того, что какая-то сволочь не справилась со своим грузовиком… «Мир, где не существует справедливости, за исключением той, которую мы творим сами. Да, кое-что мы можем… Но этого мало – так мало. Рене прав не во всем, но одного у него не отнимешь: он знает, как сделать так, чтобы нас услышали. Но что она…»
И этот испуг заставил его прикрикнуть грубее, чем он хотел:
– Ты можешь внятно объяснить, что случилось?
Опять бессловесное сопение и взгляд, упертый даже не в стол, а в складки короткой юбочки, зажатые между коленками.
Два года назад, в первую неделю после похорон, она просыпалась ночью и приходила в его комнату. Ни слова не говоря, забиралась к нему в постель и, свернувшись клубочком у него под боком, мгновенно засыпала. Мысль о том, что какой-нибудь детский психолог будет ковыряться в ее чувствах и расспрашивать ее, вызывала у него тошноту; можно ли давать ребенку снотворное, он не знал, и в конце концов попросту перетащил ее кровать к себе и поставил рядом со своей – безо всяких объяснений. Это помогло. Они прожили так до самого отъезда, а в Париже она уверенно обосновалась в собственной комнате, и все ночные страхи как рукой сняло. Они никогда не говорили об этом… о таких вещах. О родителях. Может, пришло время?..
Он встал из-за стола, развернул ее вместе со стулом лицом к себе и присел перед ней.
– Пожалуйста, скажи мне, – попросил он так мягко, как умел.
Она еще помолчала, уже сдаваясь. И, решившись, пробормотала:
– Альбер… это всё Эжени.
– Что за Эжени?
– Новенькая… я тебе рассказывала на той неделе, но ты не слушал. Ты вечно думаешь о чем-то своем и никогда не слушаешь.
«Хоть убей, не припоминаю…»
– Сейчас я тебя слушаю очень внимательно.
И он услышал сбивчивый, но всё-таки не сопровождающийся слезами рассказ о том, как этот самый Альбер из ее класса (тоже, кстати, оказавшийся для него новостью) четыре раза дожидался ее после школы и два раза провожал до автобуса, и при этом нес ее сумку; а вчера она увидела, как он ушел с Эжени.
– Она у нас всего неделю и сразу мне понравилась – она ужасно умная и красивая… позавчера я уже совсем решила, что предложу ей дружить, но подумала, что подожду еще один день, и вот… Хорошо, что я подождала. Они вместе сели в автобус – на первом же провожании! У нас с ним так не было… А теперь они оба для меня потеряны, навсегда. Оба, понимаешь?
Он ни за что не признался бы ей в том чувстве радостного облегчения, которое испытал: наконец-то нашлось то, что заслонило для нее смерть родителей. Все эти два года их самостоятельной жизни она неизменно пребывала в хорошем настроении, и ничто не могло расстроить ее – ни плохие отметки, ни ссоры с подружками, ни постоянная нехватка денег на красивую одежду, игрушки и развлечения – как будто перенесенное горе было столь невместимо громадным, что навсегда лишило ее способности к переживаниям, естественным для ее возраста. Это уже начинало всерьез беспокоить его. Если бы она была такой же замкнутой, как он, то можно было бы предположить, что она тоже скрывает свои печали – но в этом они несхожи…
«Наконец-то она ведет себя как нормальная девочка. Само собой, я должен ее утешить, посоветовать что-нибудь – только без излишней драматизации. Вот новые заботы на мою голову…»
– У тебя всё впереди. Ты еще найдешь с кем подружиться, и в тебя тоже кто-нибудь влюбится с первого взгляда, вот увидишь.
Она мрачно мотнула головой.
– С первого не влюбятся. Я некрасивая.
– Нет, ты очень милая. А когда подрастешь, то станешь еще лучше.
– Откуда ты знаешь?
– Помню по школе. Все девочки становятся красивее, когда вырастают.
«Ну, на самом деле это верно не для всех случаев, но надо же ее подбодрить…»
– У тебя замечательные волосы. И глаза. И стройная фигура. И… – он никогда не отличался разговорчивостью, а тем более умением делать комплименты. – И мне очень нравится твой характер. Ты добрая, веселая…
– Это ты так считаешь. А ему всё это не нужно.
– И чего ты хочешь от меня – чтобы я позвонил маме этого Альбера и пожаловался, что он перестал с тобой общаться? Или мне пойти и самому набить ему морду?
– Нет, что ты, – эта угроза перепугала ее не на шутку. – Ты же взрослый… ты его убьешь…
Значит, она не настолько обижена на этого своего мальчишку, чтобы желать ему смерти. И то ладно.
«Неужели дело может дойти до того, что нам придется убивать? Неужели Рене готов… Ведь всегда можно рассчитать взрывы так, чтобы люди не пострадали, – демонстрационный эффект, и всё. Это тоже подействует. Мы же не преступники, мы боремся за справедливость…»
– Если бы ты был старше меня на год или два, то мог бы встречать меня у школы, как будто ты мой новый друг… пусть бы они видели.
– Во-первых, все знают, что я твой брат. А во-вторых, если бы я был несовершеннолетним, то мы оба сейчас торчали бы в каком-нибудь детском доме. Или у приемных родителей.
Немного резкости не помешает – чтобы встряхнуть ее и помочь оценить то, что у нее есть.
Она посмотрела на него очень серьезно, и глаза были уже не такими несчастными – видимо, она, немного успокоившись, задумалась над его словами.
– Как это родители могут быть приемными? Я ведь уже совсем большая и никогда бы не привязалась к каким-то чужим людям, а ты – тем более… И я бы не согласилась жить даже у самых добрых. Я хочу быть с тобой.
Он знал, как она его любит, но всё равно услышать это было необычайно приятно. Как всякие брат и сестра, они не привыкли обмениваться нежностями, а он к тому же старался не выказывать своих чувств ни перед кем, – так уж он был устроен. Поступки говорят сами за себя, а о том, что внутри, никто не должен знать… «Это моя душа, и другим там делать нечего.»
– Мишель, ты никогда меня не бросишь?
– Не задавай дурацких вопросов. Как я могу тебя бросить?
«Как мама с папой.» Она даже произнести это боится, но ясно, что у нее на уме.
– А ты осторожно водишь мотоцикл?
– Да.
– Ври больше… мотоциклисты всегда носятся как сумасшедшие.
– А я – нет. Я никогда не превышаю скорость, потому что у нас нет лишних денег на штрафы.
Следующий вопрос, похоже, мучил ее очень давно, – с того дня, как он приволок в их квартиру приобретенную по случаю подержанную «ламбретту»:
– На мотоцикле ведь легче свернуть в сторону, чем на машине?
– Гораздо легче, – заверил он ее самым спокойным и авторитетным тоном опытного водителя, на какой был способен. – И в любой момент можно съехать на тротуар или на обочину… всё равно что на велосипеде. И я всегда езжу очень осторожно, не беспокойся.
«А со взрывчаткой и детонаторами обращаюсь еще осторожнее – Рене подтвердит. И у меня с ним уговор: если со мной что-нибудь… На него я могу положиться.»
– Спроси у Рене, если не веришь.
Кажется, ему удалось-таки избавить ее от ЭТОГО страха, а упоминание о Рене заставило ее мысли устремиться в другом направлении.
– А ты мог бы попросить его зайти за мной в школу? Он, правда, слишком взрослый, но зато его у нас никто не знает, и все будут гадать, с кем это я иду.
– Делать ему больше нечего, кроме как интриговать твоих одноклассников.
– Раз ты такой вредный, то я сама его попрошу, когда он к нам придет. Он мне не откажет.
– Ты так думаешь?
– Конечно… он очень хорошо ко мне относится и рассказывает всякие забавные истории. А ты… Почему ты так мало разговариваешь со мной?
– О чем?
– Ну, не знаю… о себе… что ты делаешь на работе?
– Приезжаю на завод, отмечаюсь в табеле, иду на свое рабочее место, настраиваю станок, устанавливаю в нем инструмент, устанавливаю и закрепляю деталь… продолжать?
– А в университете?
– Возьми мои учебники и посмотри… тебе это не будет интересно.
Она вздохнула.
– Знаешь, чего мне хочется? Чтобы у тебя появилась девушка. Она бы приходила к нам, оставалась ночевать… может, даже поселилась бы у нас. И я бы говорила с ней о разных вещах, которые интересны женщинами – о прическах, об одежде, и вообще…
– А с подругами ты об этом не говоришь?
– Так то с подругами… со взрослой девушкой – совсем другое дело.
Да… двенадцатилетней девочке нужна умная любящая мама, или хотя бы старшая сестра вместо брата – угрюмого молчальника, который днем пропадает на лекциях и демонстрациях, ночью – на работе, а в свободное время либо возится со своим мотоциклом, либо дрыхнет как сурок.
– Тебе не нравится никто из твоих однокурсниц?
– Нет.
«Не настолько, чтобы пригласить домой… Не буду пока разрушать ее идиллические представления о взаимоотношениях с приятельницами старших братьев. А сейчас надо спровадить ее в школу и завалиться наконец в постель…»
Он с трудом подавил зевок, чего она не могла не заметить.
– Ну вот, как всегда… ты приходишь домой только для того, чтобы поспать, а потом опять куда-то исчезаешь… и по ночам тебя никогда не бывает. Ты не можешь устроиться так, чтобы работать днем?
– Днем у меня занятия, разве ты не знаешь? К тому же за ночные смены больше платят.
– Ты вечно говоришь о деньгах.
«Если бы о деньгах, – а то об их отсутствии.»
– Денег у нас в обрез, и нам придется жить очень экономно до тех пор, пока я не окончу университет. Тогда я найду работу по специальности, и все проблемы будут решены. А когда ты закончишь школу, я смогу спокойно оплатить твое дальнейшее образование.
Ее унылая мордашка недвусмысленно говорила о том, что, хотя она и сама отлично всё понимает, занудный рационализм его нотаций – не самое верное утешение. «Она еще маленькая, а учитывая, с чего начался весь этот разговор… Нужно как-то по-другому…»
– Послушай… раз уж так вышло, что мы остались вдвоем, то надо терпеть неудобства и помогать друг другу. Я делаю что могу для того, чтобы у нас была нормальная жизнь и тебе было хорошо. Возможно, у меня не всё получается, но я очень стараюсь. Это не всегда легко…
Он по-прежнему сидел перед ней на корточках, их лица были на одном уровне, и они смотрели в глаза друг другу так долго и с такого близкого расстояния, как бывало очень редко… «Ее глаза не серо-зеленые, как мои, а ближе к светло-карим, и она этим страшно недовольна, как могут быть недовольны только девчонки. А когда я однажды сказал ей, что такой цвет тоже совсем неплох, то она выпалила до смешного возмущенно: «Да я вообще всегда хотела голубые!» – точно о платье или туфельках… Зато нос у нее будет гораздо правильнее, чем у меня, уже сейчас видно – тонкий, прямой и не слишком длинный. Это здорово, а то ведь носы – еще один распространенный повод для недовольства. Нет, она вырастет очень симпатичной, тревожиться ей не о чем. Она просто чудесная, и поскорей бы на смену этому остолопу Альберу пришел какой-нибудь достойный ее друг… а уж я прослежу, чтобы всё было в порядке.
Как же тоскливо мне было бы без нее…»
Он не знал, что высмотрела она в его глазах, но она вдруг наклонилась к нему и обняла крепко-крепко. Стиснула изо всех сил – неловко, поверх его опущенных рук, так что он не мог тоже обнять ее – и прошептала ему на ухо:
– Я тоже стараюсь…
Он почувствовал, что она дрожит.
Они посидели так, пока она не успокоилась, а тогда он осторожно высвободился из ее объятий.
– Ну ладно, всё, – проговорил он тихо, про себя молясь, чтобы она не обиделась; помимо прочего, у него затекли ноги от длительного пребывания в такой малоудобной позе. – Теперь я лягу спать, а ты отправишься в школу. Договорились?
– Умгу. Но я не буду с ними разговаривать… даже смотреть в их сторону не буду.
– Это как тебе угодно. Только не опоздай на второй урок, – первый ты уже пропустила. Кстати, что это было?
– Рисование… жалко.
Явный прогресс по сравнению с «больше не пойду».
– А второй?
– Английский.
– Замечательно. Язык, необходимый любому современному человеку. Бери сумку, и ноги в руки.
– Yes, sir. Или как там отвечают военные в кино – «affirmative»*.
«Ну вот, как будто бы всё утряслось. Но, чует мое сердце, таких бесед предстоит еще немало. И пускай, – главное, чтобы она делилась. Доверяла мне во всем…»
Сбегав в свою комнату за школьной сумкой, она, разумеется, застряла на некоторое время перед зеркалом в крохотной прихожей. И, в десятый раз проводя щеткой по и так уже гладким волосам (которым, по ее глубокому убеждению, следовало бы быть волнистыми – как у него), задумчиво произнесла:
– А когда мне будет двадцать, то Рене – двадцать девять. Подходящее соотношение.
– Для чего подходящее?
– Чтобы выйти замуж.
«Моя сестра – ветреная особа…»
– А как же Альбер? – рискнул он напомнить.
– Это другое… На одноклассницах не женятся. Муж должен быть старше на несколько лет – женщины ведь раньше стареют. А Рене – твой лучший друг, и я хорошо его знаю, это плюс. И я хочу, чтобы у моих детей были светлые волосы, это очень красиво – а, учитывая цвет моих волос, мне обязательно нужен муж-блондин.
От такого практично-генетического подхода он едва не уронил в мойку собранную со стола посуду.
– Рене уже в курсе того, какие у тебя далеко идущие планы на его счет?
– Нет, что ты… еще рано. Я пока что в него не влюбилась. Вот когда влюблюсь, тогда можно будет спросить… А ты не вздумай выдавать меня раньше времени!
– Ни в коем случае.
Лишь бы она не распознала по голосу, что он улыбается. Это в данную минуту совсем некстати.
Надо поскорее задать какой-нибудь серьезный и положительный вопрос.
– И сколько детей ты планируешь завести?
Судя по тому, как охотно она ответила, проблема была обдумана заблаговременно.
– По-моему, самое лучшее количество – четверо. Старшие мальчик и девочка и еще одна пара, намного младше – как у нас с тобой. Тогда каждому будет с кем общаться – и по возрасту, и по интересам. И всегда кто-то сможет присмотреть за маленькими… Двое старших – это надежнее.
«Да уж…»
Рене, без сомнения, растрогают ее проекты; но этот разговор о грядущей семейной жизни напомнил ему кое о чем – когда еще выпадет такой удобный момент для небольшой разъяснительной беседы на тему, которая не может не смутить ее.
– Раз речь зашла о таких вещах, то я хотел тебя предупредить: если ты почувствуешь, что у тебя болит живот не так, как раньше, или заметишь еще что-то новое – ну, что ты становишься девушкой, понимаешь… не стесняйся сказать мне. Я тебе дам одну книжку, там об этом написано очень популярно, а если ты чего-нибудь не поймешь…
Она выглянула из прихожей с улыбкой, которую можно было назвать… хм, успокаивающей.
– Да ты не волнуйся, я всё это уже знаю – нам рассказывали на уроках гигиены. И ничего особенного тут нет, только противно и куча неудобств. Почему врачи не научатся отключать это до тех пор, когда пора будет выходить замуж и рожать детей? Пока мы маленькие, от этих органов ведь всё равно никакой пользы.
Насколько заметно он краснеет?.. Ну, ничего, еще одним затруднением меньше, спасибо составителям школьных программ.
– Как устроены мальчики, мы тоже проходили. Им, конечно, проще, чем нам – мы и рожаем, и…
– Ты пойдешь наконец в школу? Если ты прогуляешь и второй урок, меня точно вызовут и будут пилить по поводу того, что я плохо тебя воспитываю. А я не хочу терять время на такую ерунду, как выслушивание поучений от твоей учительницы.
– Ты меня нормально воспитываешь. И ты должен знать, что я подготовлена к тому, чтобы стать женой и матерью.
* * *
Если это осуществилось и не совсем так, как она рассчитывала в двенадцать лет… она не казалась разочарованной. У нее всё так хорошо, как только можно пожелать. И эта полу-встреча – точно через стекло с односторонней прозрачностью – окончательно подтвердила, что за нее он может быть спокоен. Ему тут делать нечего, а воспоминания о ее счастье послужат для него поддержкой – и свидетельством того, что его совесть чиста хотя бы в чем-то.
«Здесь – никаких долгов. Я вправе считать себя свободным…»
Он пронаблюдал за воскресным походом маленького семейства до самого перекрестка, где оно свернуло за угол, очевидно направляясь в детский парк, и, когда они скрылись из виду, медленно тронул машину с места.
* * *
Он возвратился в город. Ему хотелось прогуляться по Парижу на прощание. Пока что он, можно сказать, не вылезал из машины, если не считать минуты-другой, потраченных на то, чтобы преодолеть расстояние между ней и подъездом.
«Вволю надышаться живым уличным воздухом, избавившись от медицинских запахов, которые пропитали меня насквозь, испытать способность ходить, восстановленную с немалыми трудами, и почувствовать себя вне Отдела…»
Машину он бросил в каком-то переулке у площади Бастилии – с соблазнительно приотворенной дверцей и ключами в замке зажигания. Место это бойкое, и вскоре кто-нибудь непременно приберет ее к рукам, посмеявшись про себя над безвестным растяпой.
Представление о том, куда податься, по-прежнему было весьма неопределенным, но он уже знал, что для этого понадобится не машина, а самолет…
Через мост Сюлли он перешел на левый берег и двинулся по набережной в сторону Сите.
Избегайте любых травм головы и не перегружайте ноги, настоятельно посоветовали ему, отпуская из медчасти. Старайтесь вообще не перегружаться. Вы должны привыкнуть к той мере здоровья, которая теперь у вас есть. Учитывая то, какой активный образ жизни вы вели до сих пор, не удивляйтесь, если это получится далеко не сразу.
«Вот и начну привыкать. Самое время, не так ли?..»
Передвижение в условиях города несколько… да что там говорить, сильно отличалось от ходьбы по идеально ровным полам медчасти и спортзала. Ступеньки, бордюры, лужи, выбоины… Он потихоньку ковылял по влажной брусчатке под раздражающе однообразное постукивание костыля, и резкий сырой ветер ранней весны, летящий вдоль Сены, лохматил ему волосы и задувал под очки, неприятно холодя дыру на лице, – новая кожа, собранная хирургами из уцелевших клочков, всё еще сохраняла повышенную чувствительность, хотя швы полностью зажили. В неподвижной кондиционированной атмосфере Отдела это не ощущалось как дыра, но здесь, в обычном мире, где ему ныне предстояло существовать, имелась такая вещь, как погода – и ветер, пробивающийся, казалось, до самого мозга.
«Я и к этому привыкну.»
Слова Юргена о шоке были абсолютно правильными – то же узнаваемое сочетание отстраненности и обострившегося восприятия деталей, усталого безразличия и смутного стремления куда-то прочь, вдаль… слабости и не-покоя. Окружающее было таким ярким, громким – и одновременно на некотором расстоянии. Можно безо всякой спешки исследовать его, сравнивая с теми образами, что хранила память, словно ты вернулся после отсутствия столь долгого, что многое могло непредсказуемо измениться.
Да это и есть возвращение, в определенном смысле. Возвращение с той стороны, невозможный путь назад – Алиса, карабкающаяся вверх по стенам кроличьей норы.
Он спустился на нижнюю часть набережной, поближе к реке. Там уличные шумы звучали тише, и не было никого, кроме нескольких прохожих в отдалении. Пахло речной водой, готовящимися пробудиться почками, мокрой после дождя землей и древними камнями. Впереди и справа над острым мысом Сите поднимались башни Нотр-Дам, и неправдоподобно тонкий шпиль вонзался в туманное небо, а не доходя моста Архиепископства к берегу была пришвартована баржа – из тех, что избирают себе для жилья некоторые любители оригинального. На ее плоской крыше была расстелена циновка, на которой восседал в позе лотоса широкоплечий темноволосый человек в серой шерстяной куртке поверх белого кимоно. Судя по рукам, расслабленно лежащим на коленях, и полузакрытым глазам, обитатель баржи предавался медитации, глубина которой вызывала только зависть.
По набережным он мог бродить до бесконечности – раньше мог. С начала этой прогулки не прошло и часа, а он уже принялся нетерпеливо оглядываться в поисках чего-нибудь, куда можно сесть. Ноги, одеревеневшие от боли и усталости, буквально отваливались, и спина тоже молила о передышке («Спасибо жилету, а то не миновать бы мне коляски…»), хотя целый час – это достижение, заслуживающее того, чтобы им гордиться.
Почему тут совсем нет скамеек?
Он уже вознамерился было опуститься прямо на бордюр, махнув рукой на чистоту пальто – ноги не держали совершенно – как заметил ящик, очень кстати оставленный каким-то запасливым рыболовом. Он присел на этот ящик и постарался пристроить ноги так, чтобы они отдохнули, что было не самой простой задачей на таком маленьком и жестком сидении. Его избаловала возможность лечь в любую минуту – хотя бы на пол, если, как не раз случалось под конец сеанса пыток, именовавшихся лечебной физкультурой, ноги начисто выходили из повиновения, и не от одной боли, которую можно перетерпеть…
Он сосредоточенно уставился на аккуратные прямоугольники камней, которыми была вымощена набережная, пытаясь усилием воли остановить их движение. Они плавно покачивались, как и дома на противоположном берегу. Но в голове было тихо – ни шороха, ни звона. «Это никакая не перегрузка, а элементарный избыток ВНЕШНЕГО после многих дней затворничества… правда, если судить объективно, то доза новых впечатлений весьма скромная. Умиротворяющая обстановка почти родного города… но не притворяйся перед самим собой, что всё дело только в переутомленных мышцах. Адаптация… никуда не деться от этой неизбежной постепенности, которая всё-таки терзает меньше, чем… тот ущерб, что не исправить.
Ничего, сейчас всё пройдет…»
Он вскинул голову на звук шагов – «я обязан был среагировать намного раньше… черт, никак не освоюсь с этим сокращением поля зрения – процентов на двадцать как минимум». К нему подходил человек с баржи.
– Вам не нужна помощь?
Вопрос был задан по-французски, но с акцентом британца… не англичанина.
– Простите?..
Ну конечно, – за эти месяцы подземной жизни он должен был изрядно побледнеть. Вдобавок ко всему остальному.
«Вот как я выгляжу со стороны – немощный калека, весь вид которого взывает о… До чего же отвратительно.»
Внимательные темно-карие глаза, смотревшие на него из-под густых бровей, были полны озабоченности тем, что помощь, в уместности которой не возникает сомнений, будет по какой-то причине отвергнута.
– Если вам надо посидеть или прилечь, вы можете сделать это у меня, – человек кивнул через плечо на свое обиталище. – Там гораздо удобнее.
Безусловно. А вечная настороженность, неотделимая от прежней жизни… ее время прошло. Теперь он обыкновенный человек, который может не опасаться случайных встреч, разговоров… знакомств… Но разве от них удерживает лишь страх за свою безопасность? «Я всегда был одиночкой, и поздно меняться… Мне еще никогда не предлагали помочь. Но я не имею права рассчитывать на кого-то, кроме самого себя, – а если начать с поблажек…»
Прежде чем с его губ сорвалось автоматическое «Нет, спасибо», владелец баржи, отвлекшийся ради него от своих медитативных упражнений, проговорил:
– У одного из моих лучших друзей протезы обеих ног. Он был летчиком во Вьетнаме.
«Что там насчет людей, которые понимают меня?..»
И знают, как уговорить.
– Мне бы не хотелось затруднять вас… – сказал он уже только из вежливости, и человек в кимоно твердо возразил:
– Никаких затруднений. Пойдемте.
Он сумел благополучно встать, добраться до сходен и спуститься вниз, хотя тот, кто его пригласил, держался рядом, явно готовый подхватить его, если понадобится. Но ему удалось даже ни разу не споткнуться на ступеньках, которые вели в то, что некогда являлось трюмом, а теперь было преобразовано в жилое помещение; неуклюже переступая по коротенькой лестнице, он жалел об отсутствии каких-никаких перил и думал, что, вероятно, очень напоминает хозяину своей походкой того самого друга на протезах.
«Да, я воистину легко отделался…»
Первое, что бросалось в глаза – обитый белой кожей диван от борта до борта; и повалиться на него было непередаваемым облегчением. Откинуться на толстую упругую спинку и вытянуть измученные ноги… нет, ложиться – это чересчур.
– Располагайтесь как вам удобнее, – предложил хозяин, сбросив куртку и направляясь в отгороженный уголок, исполнявший роль кухни. – Выпьете что-нибудь? В моем баре найдутся напитки на любой вкус… лучшая замена обезболивающему, которого, к сожалению, у меня нет.
Он отказался, и хозяин не стал настаивать. Не назвал своего имени и не задавал никаких вопросов – человек, которого не тяготит молчание, который видит основной источник неловкости – для других, в первую очередь – в ненужных словах…
Обстановка баржи была достойна изучения. Помимо благословенного дивана, она состояла из широкой деревянной кровати в японском стиле, помещавшейся на небольшом возвышении в носовой части, нескольких кожаных кресел вокруг низкого, но обширного стола, маленького камина, стеллажей, заполненных предметами, которые очаровали бы скорее археологов и этнографов, чем торговцев антиквариатом, пары грубых железных подсвечников в человеческий рост, стопок свежих газет и массы книг, – многие из них были как минимум не моложе прошлого века. Среди фолиантов, которые своими заскорузлыми от исторических бурь кожаными переплетами и несомненным пергаментом страниц довели бы любого букиниста до истерического экстаза, угнездился ноутбук новейшей модели, столь же органично вписывающийся в это смешение эпох и народов, как и одежда его владельца, и треугольная серебряная заколка с узором из переплетающихся лоз, стягивавшая на затылке его волосы.
У бывшей рубки был разобран пол, и ее стеклянные стены превратились в одно огромное окно верхнего света.
«Вот жилище, целиком устроенное сообразно вкусам и пристрастиям своего хозяина – здесь нет ни одной безразличной ему вещи, равно как и намерения произвести эффект на гостей – это нетрудно определить. Вся эта экзотика без исключения – для самого себя, для своей души… впрочем, его друзьям здесь тоже должно быть неплохо. А я пока еще не знаю, каким хочу видеть мой дом и где он будет находиться. Ненамного же я продвинулся в своих планах после той беседы с Никитой…»
Он пробыл в этом достопримечательном месте около часа. Хозяин возился в кухонном углу, чистя и нарезая овощи, потом ненадолго прервался, чтобы ответить на звонок кого-то, кого он назвал Джо, и растопить камин, располагавшийся почему-то не у стены, а чуть ли не в центре помещения; он по-прежнему молчал, не навязываясь с разговором, но видно было, что присутствие постороннего в его доме не доставляет ему никакого неудобства – это было молчание спокойной доброжелательности… «такое же, как и первые слова, с которыми он обратился ко мне. Он производит впечатление человека, обоснованно уверенного в своей силе и безопасности, и благодаря этой уверенности отлично ладящего с миром и людьми, которые его населяют… гармоническая личность. И наверняка он не жалуется на недостаток друзей.»
Не желая злоупотреблять чужим радушием, он поднялся, едва почувствовал, что ноги снова согласны держать его.
– Вы достаточно отдохнули?
– Да, благодарю вас.
Поначалу он еще собирался пусть не дойти, но доехать до Монмартра и, постепенно спускаясь от церкви Сакре-Кёр, побродить по его улочкам, непохожим одна на другую, – то превращающимся в лестницу, то перегороженным непринужденно растущим деревом, неуправляемыми зарослями дикого винограда или мольбертом какого-нибудь прилежного последователя Утрилло.
Но какой там Монмартр… несмотря на отдых у гостеприимного обитателя баржи, так и оставшегося для него безымянным, он не мог без содрогания подумать об этих лестницах, спусках, булыжных мостовых, да и, если уж быть откровенным, об одной перспективе вновь идти куда-то на этих проклятых ногах, которые яснее ясного давали ему понять, что для первого раза с них хватит.
Итак, с Парижем покончено.
Остановив такси, он велел ехать в Орли.
Никита переступила порог с надетой заранее храброй улыбкой, которая при взгляде на него… Точь-в-точь как во время ее первого задания – «вывода в свет» на отдельском жаргоне – когда в ресторане он подал ей многообещающе тяжелую коробку в подарочной упаковке и она, счастливо зажмурившись в предвкушении сюрприза, развязала блестящую ленту и подняла крышку… а, увидев, что там, вздрогнула, но удержала-таки полинявшую было улыбку, повинуясь его твердым приказывающим глазам – а то, что вспыхнуло в ее глазах, не заметил бы ни одни сторонний наблюдатель. Гнев, боль, потерянность, разочарование… сейчас он видел их вновь, столь же ясно, как и тогда, плюс ужас и сочувствие во всей силе первого впечатления.
«Отныне первый взгляд на тебя любого не-врача будет именно таким – разве что сочувствия поменьше, а смущенно-брезгливого удивления побольше. Привыкай, и поскорее.»
И всё равно ее реакция не совсем понятна. Он не может выглядеть хуже, чем тогда, когда она видела его в последний раз, помогая (наверняка…) вытаскивать из-под завала, и нести к фургону; да и по дороге в Отдел… Чего же она в таком случае ждала – бесследной регенерации? Неуязвимости, близкой к бессмертию?
Он вспомнил кое-что позабытое и ни разу не всплывавшее в памяти за эти месяцы, а теперь сразу вспомнившееся, едва он увидел Никиту – ее отчаянный крик: «Майкл!..» – когда он повернулся и побежал вниз по ступенькам… последнее, что он услышал перед взрывом. Этот крик стоял сейчас в ее глазах, вместе с гневом и детской обидой на того, кто был воплощением силы и неуязвимости и посмел перестать им быть.
Вероятно, без такого символа не обойтись никому.
Гибель родителей сокрушила его мир и оставила беззащитным, хотя он к тому моменту уже давно вышел из возраста, в котором они воспринимаются всемогущими и вечными столпами мироздания. Но они БЫЛИ такими – он пережил это время, этот опыт. А Никита была лишена всего этого, да и не подозревала, наверно, что подобное ей нужно. Когда он вел ее знакомиться с Мэдлин и она спросила, куда они идут, то он изрек с невозмутимой высокопарностью: «К вашей новой матери», – в ответ на что получил ядовитую усмешку исподлобья: «А вы кто? Папа?» И весь ее вид говорил, что уж ЭТО ей ну совершенно ни к чему.
Всего лишь десятилетняя разница в возрасте, не считая множества других причин и обстоятельств, исключала такое отношение; но тем не менее было что-то… что-то помимо необходимости подчиняться. Ожидание всесилия, всезнания и поддержки – того, кто успеет вовремя и спасет.
Больше этого не будет. Этого подобия дружбы, зародившейся и начавшей немного укрепляться за минувший год.
Никита подошла поближе – ближе, чем Мэдлин вчера – как будто боялась, что у него не хватит сил на громкий разговор. Присесть тут было не на что, кроме его кровати, и она осталась стоять, мужественно борясь со своим лицом, выстраивая улыбку, которая всё не желала складываться. А ему было приятно видеть хоть кого-то, кому он небезразличен просто как человек.
– Привет, – сказала она, и в ее голосе было то же, что и на лице. – Я и раньше просилась навестить тебя, но мне разрешили только сейчас… не знаю, почему.
Он знал – и думал о том, что ей не обязательно вымучивать из себя эту радостную мину. Они поговорят о самом важном, и беседа не затянется надолго.
– Никита… я хотел тебя поблагодарить.
Он надеялся, что она достаточно узнала его, чтобы понять всю силу его благодарности.
Она поняла всё – и сказала про всё сразу, чтобы больше не возвращаться:
– Мне очень жаль…
В голове с ломким хрустом ворохнулись листья.
– Если бы не Отдел, ни у кого из нас не было бы жизни. Какое у меня право чувствовать себя обманутым…
– У тебя есть право чувствовать себя так, как ты пожелаешь, – возразила Никита с непримиримостью, пробуждавшейся в ней всякий раз, когда речь заходила о чувствах… о праве на них. Этого из нее не выбить никакими силами, и как же дорого ей это обойдется… Если не сумел он, то вряд ли удастся кому-то другому – да и срок безвозвратно упущен, ее подготовка завершена. Но он щадил ее…
Никита смотрела на него так, словно пыталась вернуться в тот их разговор в его кабинете перед тем, как она отправилась в «Стеклянный Занавес». Но теперь серьезное и участливое: «Всё еще болит, да?» так и не пошло дальше ее глаз. Теперь он был во всеоружии, и она об этом догадывалась. Тогда их прервали очень вовремя – он позволил себе проявить слабость и, услышав: «Я хочу знать, что ты чувствуешь. Иногда надо довериться кому-нибудь… Я здесь – расскажи», – заколебался. Он был почти готов… до чего же своевременно их вызвали.
Никита – не Мэдлин, но сейчас его страдания для всех – открытая книга; слишком уж очевидная ситуация. И это… нет, такими словами, как «непереносимо», не стоит разбрасываться попусту даже мысленно. Их время миновало, а если и придет снова, то его надо встретить стойко… он не сдастся.
Никита уловила этот отказ, запрет – и безмолвно согласилась с ним. Впредь ни слова о том, что внутри, только о внешних обстоятельствах. О внешнем – безопаснее.
Она кивнула на прислоненные к кровати костыли, на которых он незадолго до ее прихода проволокся единственным пока посильным ему маршрутом – до двери и назад:
– Ты уже ходишь?
– Начинаю.
– А говорили, что ты больше… – она запнулась и сердито встряхнула головой. – Я так и знала, что это всё дурацкие сплетни.
– Почему? – спросил он с интересом.
– Потому что ты – это ты. Разве есть что-то, с чем ты не сможешь справиться?
– К сожалению, есть. Ходить я буду, но не более того.
Вдаваться в прочие детали он не стал, а ей, конечно, и в голову не могло прийти, что проблема не ограничивается ногами. Пусть она и дальше не сомневается в нем, хотя не всё ли равно…
Никита выглядела огорченной.
– Так… тебя переведут в другое подразделение? И на какую должность?
– Меня отпустят.
– Что значит «отпустят»? На свободу?
– Да.
– Не ври!
– Это правда. Мэдлин вчера сказала мне.
– Так вот почему они…
Новость ошеломила ее, но она явно думала не только о нем. То, что для кого-то возможна свобода, пускай и такой ценой, стало для нее подлинным откровением. Хоть бы она не увлеклась тщетными мечтами на эту тему – мечты расслабляют, тем более при нехватке самодисциплины, а это недопустимо. И смертельно опасно.
– Ты покинешь Отдел, навсегда?
Он кивнул.
– И что ты будешь делать?
– Уеду куда-нибудь.
В качестве жизненного плана это смотрелось довольно убого, но он действительно не придумал пока ничего другого, и это было всё, чего он жаждал сейчас; вдобавок от него наверняка потребуют этого, в той или иной форме – слова Мэдлин о «любой точке мира» не были случайностью.
Никиту его ответ удовлетворил – при ее неугасающем вольнолюбии «уехать» представлялось вполне достаточной программой на будущее.
– А куда?
– Я еще не решил.
Она тяжело вздохнула и, ухватив переплетенную черной ленточкой прядку волос, принялась накручивать ее на указательный палец. Когда он был ее наставником, то неизменно делал ей замечания по этому поводу – бесцельные движения отвлекают, на них расходуются силы, пусть и незначительные, а все силы и внимание должны принадлежать Отделу… постоянная полная готовность к работе, и никак иначе. Естественно, столь длинная тирада была произнесена лишь однажды – в дальнейшем хватало одного взгляда, на который она, подчиняясь, всегда отвечала своим – упрямым и вызывающим. Он оставлял ей эту видимость сопротивления, хотя обязан был отобрать всё…
Ему вдруг остро захотелось спрятать от нее свое обезображенное лицо, которое врачи и Мэдлин могли рассматривать сколько душе угодно – их профессиональный интерес ничуть его не трогал. Никита – совсем иное дело; ей одной больно видеть его, и следовало бы избавить ее от этого зрелища – вот только как? Заслониться ладонями или сунуть голову под подушку? Нет уж, спасибо…
Он с усилием припомнил, что в кармане пальто, которое, надо полагать, так и висит с осени в его шкафу в раздевалке, должны лежать темные очки – и удивился тому, что поврежденный мозг озаботился сохранением таких пустяков.
В задней комнате того компьютерного клуба, где они поймали Джей-Би, он сорвал эти очки и положил их во внутренний карман, прежде чем перейти к допросу с пристрастием…
НЕТ. НЕ ДУМАТЬ ПРО ТО. ХВАТИТ.
А об очках надо было побеспокоиться заранее. Теперь уже нет смысла…
– Знаешь, я иногда на всё согласна, лишь бы убраться отсюда куда-нибудь подальше, – проговорила Никита, и ее задумчивый голос был полон горечи. – Не жалко заплатить любую цену, даже…
Она запоздало умолкла, но он продолжил за нее:
– Даже оказаться на моем месте? Никита, это совсем не «даже». Я еще легко отделался.
– Легко?..
– Могло быть хуже, – спокойно произнес он банальную фразу, которая, как и большинство банальностей, была абсолютной истиной. Никто и никогда не услышит от него жалоб и проклятий судьбе; их нельзя облекать в слова даже наедине с собой – стоит начать, и им не будет конца…
Никита выглядела так, словно вот-вот расплачется, и с этим нужно было что-то сделать, – например, перевести разговор в служебное русло. Если она и не успокоится, то по крайней мере разозлится – так или иначе, слёз не будет.
– С кем ты теперь работаешь? – он и правда хотел это знать.
– С Лестером.
«Лестер так Лестер… предсказуемый выбор, против которого трудно возразить. Если бы я сам искал себе замену, тоже, по всей видимости, остановился бы на нем.»
– Когда его назначили на мое место?
– Сразу же после того, как ты… как тебя ранило. Он принял командование как второй по рангу в группе, а потом его так и оставили. До тебя ему, конечно, далеко, но он хороший командир.
«Никогда мне не стать главным стратегом. Не сказал бы, что это тянуло на мечту, но я стремился к этой должности, зная, что скоро дорасту до нее и начальство это поймет. Быть лучшим, раз нельзя быть самим собой… кем я буду теперь? Только и остается, что самим собой – но каким?..»
– У Лестера ты существенно улучшишь свои показатели и тактические навыки. И главное, в чем ты нуждаешься – это избавиться от излишней эмоциональности.
Оба зайца были убиты наповал – от его безусловно дельного совета она так и вспыхнула.
– Давненько ты не беседовал со мной в стиле «заткнись и слушай наставника».
– Я прикрыл тебя в истории с Мейовичем, сфальсифицировав отчет. Лестер ничего подобного делать не станет.
– Ты тогда спас мне жизнь, если помнишь, – возразила Никита. – Это немножко поважнее липового отчета.
– И я хочу, чтобы ты жила. Я хорошо обучил тебя, но ты должна еще поработать над собой, и в первую очередь над тем, о чем я сказал, если намерена выжить в Отделе. Твое будущее связано с ним, хочешь ты этого или нет.
– А о своем будущем ты думал то же самое?
«Она не боится причинять мне боль… совсем как на тренировках. Это хорошо…»
– Черт возьми, Майкл, ты же пытался убить себя! Не тебе учить меня выживанию. И я ни за что не стану такой, чтобы не суметь нормально существовать на воле, если мне когда-нибудь выпадет случай вырваться отсюда.
– Ты считаешь меня таким?
– Не знаю, – проговорила она неожиданно тихо. – Я плохо знаю тебя.
Ее недолговечная ярость уже испарилась, и вид у нее был немного виноватый.
Никита подошла вплотную к кровати, нерешительно покосившись на его ноги, прикрытые простыней. Если отодвинуть их хоть на дюйм, она воспримет это как приглашение сесть рядом, что совершенно ни к чему. Поэтому он не шевелился, заставляя себя не отстраняться от нее, что было не так легко. «Интересно, кому из нас сейчас тяжелее не отвернуться?» Никита смотрела ему в лицо нестерпимо прямым взглядом, и он наказывал себя этой скорбью в ее таких знакомых голубых глазах, потому что было за что… Но если она думает, что утешает его, то заблуждается – ей это не под силу, как, впрочем, и кому бы то ни было другому; утешение можно обрести лишь в своей душе, и никто ему здесь не помощник.
Будущее… Оно имеет свойство день за днем незаметно превращаться в настоящее; ты приучил себя не загадывать наперед и ограничивать свои повседневные планы безупречным исполнением того, что тебе поручено – но внезапно наступает миг, когда это настоящее обрывается, и мелкие привычные планы теряют всякий смысл, и ты оказываешься лицом к лицу с необходимостью строить нечто совсем новое из немногих сохранившихся обломков, пригодных для этой цели, и спешно искать недостающие материалы – где и как сумеешь…
Этим проще заниматься в одиночку – когда ни от кого не зависишь, то ты свободен и нет соблазна в чем-то винить других; а когда никто не зависит от тебя, то ты никого не подведешь…
«В этом отношении условия оптимальные. И опыт такого строительства у меня есть.»
– Ты обиделся? – пробормотала Никита. – Извини… зря я наговорила всё это, насчет выживания. Просто мне так жалко, что ты уходишь.
Она до того неправильно истолковала его молчание, что он даже улыбнулся – и изумился этому не меньше, чем она. «Я уже могу… или еще, по инерции? Новая это улыбка или из старых запасов?»
Для Никиты же она стала доказательством прощения и того, что ее слова не слишком задели его. Она заметно приободрилась и, по-видимому, тоже задумалась о его будущем – о чем-то кроме «уехать», потому что спросила:
– Чем ты занимался до Отдела?
– Учился в Сорбонне, – ответил он общедоступную часть правды.
Никита не казалась удивленной – наверно, она и ожидала услышать что-нибудь в этом духе.
– Значит, у тебя есть нормальная гражданская специальность?
– Нет, я не кончил курс.
Следующий вопрос был очевиден:
– А как ты попал в Отдел?
– Это закрытая информация.
– Скажи хотя бы: ты был невиновен, так же как и я?
Собственно говоря, он обязан был повторить свой предыдущий ответ, – и какое ему дело до ее подозрений и домыслов. Но ей это важно… очень важно. Так почему бы не одарить ее на прощание еще одним кусочком правды о себе.
– Нет. По моей вине погибли люди. Несколько человек.
Если сопоставить с тем, скольких он убил за семь лет в Отделе… Но среди убитых здесь не было невинных.
«Случайно оказавшиеся причастными» - безграничная по своей широте формулировка, рассчитанная на то, чтобы вместить в себя оправдание всего, любых побочных обстоятельств.
К примеру, смена уборщиц, понятия не имеющих о том, чем занимается фирма, в несекретных помещениях которой они каждую ночь моют полы… А спугнуть их пожарной сигнализацией – стопроцентный провал задания и всё новые и новые жертвы неуловимых клиентов этой самой фирмы, как раз сегодня приехавших за крупной партией товара…
Такое случалось – и долгая практика научила его отключаться от всего мешающего. Но… Что-то остается. Что-то всегда остается – саднящей крупинкой в глубине.
Как и то, с чего всё началось.
Никита поняла по его непререкаемой интонации, что тема закрыта, и не стала спрашивать: «Что ты сделал?»
Подступил момент, когда беседа исчерпывает себя; Никита молча постояла, отведя глаза, а, вновь подняв их на него, произнесла с какой-то забавной девчоночьей робостью:
– Ты не хочешь еще поговорить?
– Нет, – отрезал он.
Продолжать определенно незачем – он сказал всё, что собирался… и опять начинает болеть голова. По сравнению со вчерашним разговором этот – настоящий отдых, но всё же… «Мне нужно побыть одному.»
Он как раз намеревался попросить Никиту уйти, но она опередила его вопросом:
– Когда ты уезжаешь?
– Через месяц.
– Мы еще увидимся с тобой до этого?
– Не думаю.
– Тогда давай попрощаемся…
– Прощай, – его голос звучал безукоризненно ровно. «Пусть она запомнит меня таким, каким знала всегда, а следы катастрофы останутся чисто внешними… это облегчит ей расставание со мной.»
– Прощай, Майкл.
Никита протянула руку, и он с опозданием (немыслимым раньше… всё то же, проявляющееся снова и снова…) вскинул свою, чтобы предотвратить прикосновение, которое, как ему показалось, будет более ласковым, чем он бы хотел; вряд ли можно было назвать рукопожатием это неловкое столкновение ладоней… Никита тихонько стиснула его пальцы и не сразу разжала руку, – но обошлось без излишних слов и взглядов.
Белая дверь закрылась за ней, и он подумал, что облегчение и одиночество неразделимы. «Особенно теперь.» А Никита… В ней гораздо больше силы и жизнестойкости, чем она сама подозревает. Она выстоит и одна…
* * *
О нем опять забыли все, кроме врачей, и это было отрадно. Его душу в кои-то веки оставили в покое – теперь тех, кто занимался им, интересовало исключительно его тело, а на содержимом головы был поставлен крест. Он охотно принял новые условия и был самым аккуратным и послушным пациентом, с неизменным старанием выполняя всё, что ему велели. Он всегда умел терпеть боль, и долгие изнурительные тренировки, выжимающие из тела всё, на что оно способно, тоже были ему более чем знакомы.
Врачи не ошиблись с прогнозами – прошел месяц, и стало ясно, что дальнейшего прогресса не будет. «Возможны незначительные улучшения через несколько лет, но не слишком рассчитывайте…» Хорошо отработанная невозмутимость успешно скрывала разочарование, которое он смог перебороть не без труда. Он ждал чего-то большего, хотя два костыля свелись к одному, а ноги не были перекорежены и выглядели вполне пристойно, особенно пока стоишь на месте. Но знать, что это – на всю жизнь, и никогда и ничем не исправишь…
Жизнь, которую надо чем-то заполнить.
«Нежданный дар… вознаграждение… плата… выигрыш в лотерею?.. Я справился с неволей, – справлюсь и со свободой.»
Этим утром он мог идти куда пожелает.
Ему принесли его одежду, а также пакет с новыми документами и кредитными карточками. Он заглянул в паспорт. Майкл Стэниер. И новая фотография.
Очки никуда не делись из того кармана; примерив их перед зеркалом, он заключил, что стекла достаточно затемнены, но узковаты, и нужно купить что-нибудь более подходящее. И заправлять волосы за уши не стоит.
Никогда еще он не был так рад тому, что от медчасти к наружному лифту ведет отдельный коридор, которым можно пройти, минуя центральный зал и другие помещения – у него не было ни малейшего желания ползти сквозь строй жалеюще-любопытных взглядов… чего, однако, не удалось бы избежать, если бы начальство вызвало его к себе. К счастью, этого не произошло – вероятно, сочли, что первой и единственной беседы с Мэдлин довольно для прощального напутствия.
Заходить в свой бывший кабинет и подавно незачем – там нет ничего личного, ни единой вещи, которую можно было забрать, когда у кабинета сменился хозяин; это всего лишь место, где он работал – и пользовался относительным уединением, если забыть о видеокамерах под потолком, о которых он никогда не забывал. И Лестер, занявший это место, тоже не привнесет туда ничего своего – всё личное должно быть только в голове, хотя и это не полная гарантия неприкосновенности, учитывая квалификацию здешних психологов…
«И от этого я избавился – от постоянного копания в моих мозгах, всевозможных проверок, анализа, испытаний различной степени жестокости. Ничего этого больше не будет. И что произойдет со стенами, которые я выстроил, пытаясь защититься? Может быть, то же самое, что и со всеми устаревшими оборонительными сооружениями – когда исчезает опасность, от которой они ограждали, город постепенно перерастает их, выплескиваясь за былые пределы… И насколько я изменюсь?..»
Он не намеревался прощаться ни с кем, но там, где коридор сворачивал к лифту, его поджидали.
Человек, с которого для него начался Отдел. Тот, кого он первым увидел здесь, открыв глаза в странной белой комнате без окон, не похожей ни на камеру, ни на лазарет («Ведь я не болен… что же мне вкололи?»)… тот, кто первый назвал его Майклом, так что он, одуревший от снотворного, вяло предположил, что его за каким-то чертом перевели в британскую тюрьму…
«Уж не традиция ли это, сложившаяся за время осуществления той секретной программы – провожает непременно тот же, кто некогда встретил?»
Традициям не укорениться там, где всё подчинено правилам и приказам; любой ритуал – это разновидность принуждения, которого и так хватает с избытком. А этот человек свободнее многих.
Наставник. Применимо ли тут понятие «бывший»?
– Здравствуй, Майкл.
– Привет.
За годы, прошедшие после того, как окончилась его стажировка, он виделся с Юргеном считанные разы – случайные встречи где-нибудь в коридорах и еще более редкие совместные совещания, когда Особый отдел привлекали для консультаций; и всё их общение ограничивалось таким вот нейтральными взаимными приветствиями – равных. Не связанных ныне друг с другом. Но сейчас в голове колотился нелепый призыв, исполненный бессильного укора: «Где ты был раньше? Когда ты учил меня, то узнал как никто другой… так неужели у тебя не нашлось в запасе урока, который помог бы мне возвратиться к жизни быстрее, чем у меня получилось? Или ты решил, что теперь тебе не заставить меня его усвоить? А тогда, натаскивая столь многообещающего новичка, превращая его в того, кем он стал в конечном итоге, - почему ты не сделал его еще сильнее и совершеннее, чтобы он смог остаться таким, несмотря на всё выпавшее на его долю?»
Нет… упреки несправедливы. Отчаянию, породившему их, нельзя давать права голоса. «Юрген определил потолок моих возможностей и вынудил меня достичь его. Большее было не в его силах – в то время. А сейчас он тоже кое-что сделал для меня… я знаю.»
– С тобой обсуждали?..
Он замешкался, подбирая слово, которое должно было идти после «мое»: «списание», «освобождение», «будущее» – каждое из них по-своему правильно, и всем чего-то недостает; и ни одно ему не нравится – по разным причинам. Но можно и не произносить ничего – и так понятно.
– Они спросили мое мнение, и я очень рад, что его учли.
– Меня собирались ликвидировать?
– Нет.
– Ты настоял?
– Выражение «настоял» тут неуместно.
Эта каменная манера держаться заметно отличается от его собственной. Юрген пришел в Отдел не таким молодым, как он, и с куда большим душевным и интеллектуальным багажом, далеко не исчерпывающимся службой в войсках особого назначения. В нем так много спокойствия и свободы… жизни… что когда-нибудь это неизбежно сделает его уязвимым, тем более что тому объективному обстоятельству, которое обеспечивает ему уникальную для Отдела независимость, не позволят существовать вечно… «Рано или поздно Юргена одолеют, но я уже не буду свидетелем его крушения, и это хорошо. Пока же всё то, чего в нем слишком много, не только не вредит его силе, а наоборот…»
Юрген медленным и аккуратным движением снял очки, как делал всегда, желая получше всмотреться в собеседника и не упустить ни единой значимой детали, малейших оттенков выражения – и потянулся к его лицу.
Что удержало его от того, чтобы перехватить руку Юргена, ведь намерения были столь ясны? Память о тех временах, когда Юрген обучал его, беспощадно подгоняя его тело и душу под критерии Отдела?.. «чтобы я выжил здесь и сохранил себя. Он тоже оставил мне нечто, без чего я превратился бы в машину, как большинство других, – не потому ли, что не мыслит без этого и своей жизни? В ту пору он мог прикасаться ко мне как пожелает… делать всё, что сочтет полезным.»
Их жестокие схватки. Вкус крови во рту, пропущенные удары – каждый раз он что-то да пропускал, наставник превосходил его во всем… страшная боль в треснувшем ребре, бог знает какое по счету падение… и холодное: «Вставай. Продолжаем.»
«О да, это пошло мне на пользу. Теперь я поднимусь всегда…»
Темные очки остались в руке Юргена; долгое внимательное изучение – не шрамов, а того, что внутри, на недосягаемой, хотелось бы верить, глубине (а вера-то до смешного тщетная…) – невозможно выдерживать равнодушно как раз потому, что этот человек видел его всяким – и слабым, и близким к помешательству от ужаса и отчаяния… и в каком-то смысле единственный, кто заслужил право на его откровенность – на допустимую ее долю.
«Равнозначна ли откровенность доверию? То, что я позволил ему… это уже говорит само за себя. Но слов не будет. Всё, что он разглядит во мне – всё его; но ничего сверх этого. Его никто не посылал сюда, он пришел, так как я что-то значу для него, – но это не означает, что я готов разговаривать с ним о себе. Даже с ним… И он всё прекрасно понимает и ничего не ждет от меня.»
Легкая усмешка Юргена прервала состязание в бесстрастности, и была в ней не уступка, но уважение: «Ты всё тот же…»
– Тебе выпал редчайший шанс – ты наконец-то сможешь уделить максимум внимания своему внутреннему миру, отбирая из внешнего только те элементы, которые захочешь. И не бойся того, что найдешь в себе – что-то ты преодолеешь, с чем-то примиришься, и результатом будет обретение такой духовной гармонии, на какую ты не рассчитывал никогда.
Он знал, что недоверие не отразилось на лице. Гармония, душевное равновесие – это всё в некоей непредставимой дали. Для начала ему хватило бы и чего-нибудь менее недостижимого – покоя… Покой – это отсутствие боли. Не так уж мало…
Юрген не мог не ощутить его несогласие.
– А если ты опасаешься, что внутри у тебя так пусто, что не с чем будет жить, то это не так. Твоя личность уцелела, и ты не предашь ее. Жизнь продолжается.
– Неужели?
И как у него это вырвалось…
– Да, обыкновенная жизнь, которой не будет распоряжаться никто, кроме тебя самого. Ты справишься, поверь. Сейчас ты еще в шоке, но когда начнешь приходить в себя, то увидишь, что я прав.
«До чего странно – через несколько минут, когда я переступлю этот порог, все люди, которые знают меня и в той или иной степени понимают, пусть даже от этого понимания мало радости – все они уйдут в прошлое… а здешнее прошлое – это исчезновение навечно. И та часть меня, которая существовала лишь в этих стенах, специально созданная и доведенная до совершенства с безжалостной заботой, исчезнет тоже… такая огромная часть. Всё равно что кусочек смерти и последующих похорон.
Однако же как часто в последнее время звучит слово «жизнь» – и в устах тех, кто обращается ко мне, и в моих мыслях… в мыслях, пожалуй, еще чаще. Весьма показательно…»
Вот он стоит у черты (преграды вполне материальной, если считать ею двери лифта), за которой начинается эта самая жизнь – и чего ему хочется больше: оттянуть или ускорить свой уход? И что будет бОльшим слабодушием?
«Пресловутая неготовность к переменам – пройденный этап. И я устал от собственных сомнений и вопросов и хочу наконец увидеть небо.»
Он забрал у Юргена свои очки и надел их, не говоря ни слова; две-три минут ожидания лифта – и он ступил в кабину и, подняв руку к нужной кнопке, услышал за спиной:
– Adieu, Michel.
Он медлил, потому что должен был что-то сказать этому человеку, перед тем как расстаться с ним навсегда; поиски подобающего слова длились недолго – лучшего не найти, и оно содержит в себе всё:
– Спасибо.
Он произнес это, полуобернувшись ради прощального взгляда на того, без чьих уроков не дожил бы до сегодняшнего дня; и ответом его признанию была серьезная улыбка Юргена, но не она стала последним впечатлением от Отдела, а серый металл стенок лифта, понесшего его вверх.
* * *
Необходимость покинуть квартиру, в которой он прожил все эти семь лет – сначала один, потом с Симоной, потом… потом снова один – не вызывала особых чувств. Квартира была комфортабельной, тихой и предусмотрительно располагалась неподалеку от Отдела, как жилье любого оперативника; и это всё, что он мог о ней сказать. Он не стремился возвращаться сюда после заданий, если проще было выспаться в «комнате отдыха», а поесть – в каком-нибудь кафе; после исчезновения Симоны он очистил квартиру от всех следов их совместной жизни, и она окончательно превратилась в подобие гостиничного номера с его безликой функциональностью. Предметы обстановки и всякие хозяйственные мелочи, неизбежно накапливающиеся с годами, ровным счетом ничего для него не значили, поэтому собрать вещи было очень легко, и на это ушло совсем немного времени.
Всё уместилось в дорожной сумке, которую он брал с собой, когда уезжал куда-нибудь на выходные или в отпуск: кожаная куртка, свитер, смена белья, документы, зубная щетка и пара упаковок аспирина – этим практически исчерпывался его багаж. Вообще-то не было никакой нужды отбывать столь скоропалительно, но он не видел причин задерживаться; сидеть здесь в ожидании неизвестно чего было полной бессмыслицей, а начинать заново надо где-то в другом месте.
Он даже не снял пальто, когда вошел, так что одеваться не пришлось. Повесить на плечо сумку и захлопнуть дверь – вот и всё. Завтра же квартиру освободят от того, что в ней осталось, а в один прекрасный день тут поселится очередной новобранец, который успешно завершил свою подготовку и получил право жить в городе.
«Любая точка мира? Ее выбором я займусь позднее, а прямо сейчас отправлюсь… да, именно туда – посмотреть по-настоящему на тех, кого видел только на экране компьютера. И плевать на предупреждение относительно «контактов» – без этого я не могу уехать. Просто не могу. Мне нужно это тайное прощание… встреча, о которой не будет знать никто, кроме меня.»
* * *
Прежде он не бывал в этом городке под Парижем, где поселилась сестра после замужества, и сейчас разглядывал фасад маленького опрятного домика, зажатого между куда более внушительными соседями, с нетерпеливым любопытством, выискивая отличия от виденного ранее изображения. В реальности домик выглядел ничуть не хуже, чем на компьютере, и совсем не изменился по сравнению с прошлым годом, разве что подвесная ваза, из которой летом свисали пышные плети настурций, пустовала – для цветов еще слишком рано. В узких простенках между крыльцом и окнами нашлось место двум аккуратно подстриженным туям в новеньких кадках, и дом, несмотря на скромные размеры, всем своим видом говорил о семейном уюте, спокойствии и надежном достатке.
«Спасибо Рене… Где-то он сейчас?..»
В машине, поставленной наискосок через улицу для удобного обзора, пришлось просидеть около двух часов. Сегодня воскресенье, а пасмурная погода – всего лишь остаток пролившегося ночью дождя; должны же они выйти на прогулку.
Дверь домика открылась, и он, приопустив боковое стекло, схватился за лежавший наготове бинокль. И увидел всех троих.
Сестра скатила на тротуар коляску, которая пока что была не нужна, – ее муж сразу же усадил сынишку себе на плечи. Трехлетний малыш весело смеялся и, энергично размахивая руками, бесстрашно наклонялся с высоты папиного роста, норовя дернуть маму за длинные полосы. Он заметно подрос за этот год…
Жадно изучая лицо сестры, такое радостное и оживленное, он убеждался, что мирное счастье – самое привычное для нее состояние, повседневная атмосфера, в которой она живет. «Как прекрасно, что у нее есть всё, чего я желал ей. Всё, кроме меня.»
Когда он видел ее вот так, во плоти и крови, последний раз, она тоже радовалась – сдержанно, но тем не менее чрезвычайно откровенно – очень довольная, как и положено четырнадцатилетней школьнице, тем фактом, что он уезжает по каким-то там своим делам на целых полтора дня и, следовательно, вся квартира в ее распоряжении, – ее и всех ее закадычных подруг, уже приглашенных в гости. И они смогут всласть наобщаться, и на них не будет давить присутствие мрачного студента, который сидит в своей комнате, обложившись университетскими учебниками, и время от времени рявкает из-за закрытой двери, требуя сделать музыку потише и вообще снизить уровень шума. «– Сейчас всех разгоню!» «– Да вы не обращайте на него внимания, это он не всерьез…»
Одно было хорошо в его аресте – то, что это произошло не дома. Не у нее на глазах. И она не увидела, как его избивают – а чем еще могла окончиться заведомо неравная, но яростная борьба одного безоружного с тремя полицейскими агентами…
Впоследствии ему вменили в вину и это – «активное сопротивление при аресте», дополнительное отягчающее обстоятельство… одно из тех, что заставило Отдел заинтересоваться им как кандидатом в новобранцы.
На суде, на котором девочке-подростку, слава богу, нечего было делать.
«Она была до того потрясена, что не пришла ни на одно из немногих разрешенных свиданий… я и тогда не сомневался, что это только к лучшему, хотя мы так и не встретились больше. Неважно, – ей не стоило видеть меня в тюрьме, ребенку такое слишком тяжело. Рене увез ее туда, где мог позаботиться о ней, как и обещал, и она обо всем узнавала от него – о приговоре, который я и сам осмыслил не сразу… помню мелькнувший в голове идиотский вопрос: «Пожизненно – это сколько лет?»… о том, что я умер в первый же месяц заключения. Не знаю, что он рассказывал ей про меня, про то, чем мы занимались – но, я уверен, не сказал ничего такого, что ужаснуло бы ее или заставило разочароваться во мне. У нее была поддержка – его бесценная поддержка, без которой она бы не выжила… раз брат оказался не таким хорошим опекуном, как рассчитывал.»
Сразу после школы она вышла замуж за молодого шеф-повара, вскоре у них родился ребенок… Все перенесенные потери не отравили ее душу и не помешали стать счастливой. «Прежде я не задумывался о том, много ли у нас общего – теперь, когда мы оба стали вполне взрослыми людьми. Но его не может не быть при таком близком родстве, даже несмотря на бесконечное различие жизненных путей. Она ли получила частицу моей стойкости, я ли должен искать в себе ее способность исцеляться от боли новой радостью?..»
Он смотрел, как она, смеясь, бережно выпутывает свои волосы из пальчиков сына, и вспоминал услышанное от нее десять лет назад: «Со мной всё кончено».
* * *
Он явился с работы, усталый как черт, как раз вовремя, чтобы разбудить ее перед школой и успеть по-быстрому ополоснуться под душем, прежде чем она вылезет из постели и затребует себе ванную, где и запрется минут этак на двадцать ради не поддающихся его мужскому пониманию священнодействий с заколками и бантиками. Удалось даже побриться, поскольку традиционного утреннего «Мишель, пусти меня в ванную!» сегодня почему-то не прозвучало. И сейчас они молча сидели напротив друг друга, поглощая то, что для нее было завтраком, а для него… как называется трапеза после ночной смены? Завтрак – это всё-таки начало трудового дня и не предполагает последующего сна… долгого-долгого… «Нет, не очень долгого – чтобы не только почитать хоть что-нибудь к завтрашнему семинару, но и отремонтировать наконец стиральную машину, а для этого нужно купить шланг, потому что латать старый уже невозможно… а если я хочу поехать с Рене на ту забастовку, то надо что-то сделать с мотоциклом… накопить на новый в ближайшие год-два нереально, значит, буду поддерживать этот в рабочем состоянии столько, сколько сумею… завтра переберу в очередной раз двигатель… тот парень из нашей группы даст мне поработать в своей мастерской, там можно будет…»
Он оторвался от тарелки, чтобы взглянуть на часы.
– Давай собирайся, а то опоздаешь.
«Обычно ей не приходится напоминать. С ней нетрудно, вот если бы только она не росла так быстро – к зиме точно понадобится новое пальто, а обувь…»
– Я не пойду в школу.
Он удивленно поднял голову. Если подобное и бывало иногда, то не иначе как в форме «Мишель, ну пожалуйста, а можно я сегодня…» – на что следовал его отказ, решительный и суровый. «Не пойду» – это нечто новенькое… уступать тут нельзя.
– Это еще почему?
– Не пойду, и всё.
– Ты что-то натворила?
Училась она прилично, а с дисциплиной и подавно не возникало проблем, если не считать опозданий, – довольно редких, надо признаться. И он даже представить не мог, что она способна выкинуть что-нибудь такое, что побоится на другой день идти в школу.
– Нет.
– Тогда в чем дело?
Молчание. И вид не виноватый, а несчастный.
«Может быть… Ей уже двенадцать, в таком возрасте становятся девушкой. Если причина в этом, то надо дать ей ту книжку для девочек, которой я благоразумно запасся еще в прошлом году, и купить в аптеке эти женские штуковины – сама она, конечно, поначалу постесняется… Знать бы еще, как их выбирают. Придется проконсультироваться у продавщицы. Так и скажу: для младшей сестры.»
Он уже собрался заговорить на эту тему, как она произнесла:
– Со мной всё кончено.
Недетски горький тон испугал его не меньше, чем слова, – отголоском его собственной злости, которая жила в нем постоянно, оставаясь вечным фоном всех его мыслей и чувств, пусть и не примешиваясь к ним явно, но и не угасая – злости на всех и вся, на этот поганый мир, из которого самые лучшие люди уходят, оставляя своих детей в одиночестве, только из-за того, что какая-то сволочь не справилась со своим грузовиком… «Мир, где не существует справедливости, за исключением той, которую мы творим сами. Да, кое-что мы можем… Но этого мало – так мало. Рене прав не во всем, но одного у него не отнимешь: он знает, как сделать так, чтобы нас услышали. Но что она…»
И этот испуг заставил его прикрикнуть грубее, чем он хотел:
– Ты можешь внятно объяснить, что случилось?
Опять бессловесное сопение и взгляд, упертый даже не в стол, а в складки короткой юбочки, зажатые между коленками.
Два года назад, в первую неделю после похорон, она просыпалась ночью и приходила в его комнату. Ни слова не говоря, забиралась к нему в постель и, свернувшись клубочком у него под боком, мгновенно засыпала. Мысль о том, что какой-нибудь детский психолог будет ковыряться в ее чувствах и расспрашивать ее, вызывала у него тошноту; можно ли давать ребенку снотворное, он не знал, и в конце концов попросту перетащил ее кровать к себе и поставил рядом со своей – безо всяких объяснений. Это помогло. Они прожили так до самого отъезда, а в Париже она уверенно обосновалась в собственной комнате, и все ночные страхи как рукой сняло. Они никогда не говорили об этом… о таких вещах. О родителях. Может, пришло время?..
Он встал из-за стола, развернул ее вместе со стулом лицом к себе и присел перед ней.
– Пожалуйста, скажи мне, – попросил он так мягко, как умел.
Она еще помолчала, уже сдаваясь. И, решившись, пробормотала:
– Альбер… это всё Эжени.
– Что за Эжени?
– Новенькая… я тебе рассказывала на той неделе, но ты не слушал. Ты вечно думаешь о чем-то своем и никогда не слушаешь.
«Хоть убей, не припоминаю…»
– Сейчас я тебя слушаю очень внимательно.
И он услышал сбивчивый, но всё-таки не сопровождающийся слезами рассказ о том, как этот самый Альбер из ее класса (тоже, кстати, оказавшийся для него новостью) четыре раза дожидался ее после школы и два раза провожал до автобуса, и при этом нес ее сумку; а вчера она увидела, как он ушел с Эжени.
– Она у нас всего неделю и сразу мне понравилась – она ужасно умная и красивая… позавчера я уже совсем решила, что предложу ей дружить, но подумала, что подожду еще один день, и вот… Хорошо, что я подождала. Они вместе сели в автобус – на первом же провожании! У нас с ним так не было… А теперь они оба для меня потеряны, навсегда. Оба, понимаешь?
Он ни за что не признался бы ей в том чувстве радостного облегчения, которое испытал: наконец-то нашлось то, что заслонило для нее смерть родителей. Все эти два года их самостоятельной жизни она неизменно пребывала в хорошем настроении, и ничто не могло расстроить ее – ни плохие отметки, ни ссоры с подружками, ни постоянная нехватка денег на красивую одежду, игрушки и развлечения – как будто перенесенное горе было столь невместимо громадным, что навсегда лишило ее способности к переживаниям, естественным для ее возраста. Это уже начинало всерьез беспокоить его. Если бы она была такой же замкнутой, как он, то можно было бы предположить, что она тоже скрывает свои печали – но в этом они несхожи…
«Наконец-то она ведет себя как нормальная девочка. Само собой, я должен ее утешить, посоветовать что-нибудь – только без излишней драматизации. Вот новые заботы на мою голову…»
– У тебя всё впереди. Ты еще найдешь с кем подружиться, и в тебя тоже кто-нибудь влюбится с первого взгляда, вот увидишь.
Она мрачно мотнула головой.
– С первого не влюбятся. Я некрасивая.
– Нет, ты очень милая. А когда подрастешь, то станешь еще лучше.
– Откуда ты знаешь?
– Помню по школе. Все девочки становятся красивее, когда вырастают.
«Ну, на самом деле это верно не для всех случаев, но надо же ее подбодрить…»
– У тебя замечательные волосы. И глаза. И стройная фигура. И… – он никогда не отличался разговорчивостью, а тем более умением делать комплименты. – И мне очень нравится твой характер. Ты добрая, веселая…
– Это ты так считаешь. А ему всё это не нужно.
– И чего ты хочешь от меня – чтобы я позвонил маме этого Альбера и пожаловался, что он перестал с тобой общаться? Или мне пойти и самому набить ему морду?
– Нет, что ты, – эта угроза перепугала ее не на шутку. – Ты же взрослый… ты его убьешь…
Значит, она не настолько обижена на этого своего мальчишку, чтобы желать ему смерти. И то ладно.
«Неужели дело может дойти до того, что нам придется убивать? Неужели Рене готов… Ведь всегда можно рассчитать взрывы так, чтобы люди не пострадали, – демонстрационный эффект, и всё. Это тоже подействует. Мы же не преступники, мы боремся за справедливость…»
– Если бы ты был старше меня на год или два, то мог бы встречать меня у школы, как будто ты мой новый друг… пусть бы они видели.
– Во-первых, все знают, что я твой брат. А во-вторых, если бы я был несовершеннолетним, то мы оба сейчас торчали бы в каком-нибудь детском доме. Или у приемных родителей.
Немного резкости не помешает – чтобы встряхнуть ее и помочь оценить то, что у нее есть.
Она посмотрела на него очень серьезно, и глаза были уже не такими несчастными – видимо, она, немного успокоившись, задумалась над его словами.
– Как это родители могут быть приемными? Я ведь уже совсем большая и никогда бы не привязалась к каким-то чужим людям, а ты – тем более… И я бы не согласилась жить даже у самых добрых. Я хочу быть с тобой.
Он знал, как она его любит, но всё равно услышать это было необычайно приятно. Как всякие брат и сестра, они не привыкли обмениваться нежностями, а он к тому же старался не выказывать своих чувств ни перед кем, – так уж он был устроен. Поступки говорят сами за себя, а о том, что внутри, никто не должен знать… «Это моя душа, и другим там делать нечего.»
– Мишель, ты никогда меня не бросишь?
– Не задавай дурацких вопросов. Как я могу тебя бросить?
«Как мама с папой.» Она даже произнести это боится, но ясно, что у нее на уме.
– А ты осторожно водишь мотоцикл?
– Да.
– Ври больше… мотоциклисты всегда носятся как сумасшедшие.
– А я – нет. Я никогда не превышаю скорость, потому что у нас нет лишних денег на штрафы.
Следующий вопрос, похоже, мучил ее очень давно, – с того дня, как он приволок в их квартиру приобретенную по случаю подержанную «ламбретту»:
– На мотоцикле ведь легче свернуть в сторону, чем на машине?
– Гораздо легче, – заверил он ее самым спокойным и авторитетным тоном опытного водителя, на какой был способен. – И в любой момент можно съехать на тротуар или на обочину… всё равно что на велосипеде. И я всегда езжу очень осторожно, не беспокойся.
«А со взрывчаткой и детонаторами обращаюсь еще осторожнее – Рене подтвердит. И у меня с ним уговор: если со мной что-нибудь… На него я могу положиться.»
– Спроси у Рене, если не веришь.
Кажется, ему удалось-таки избавить ее от ЭТОГО страха, а упоминание о Рене заставило ее мысли устремиться в другом направлении.
– А ты мог бы попросить его зайти за мной в школу? Он, правда, слишком взрослый, но зато его у нас никто не знает, и все будут гадать, с кем это я иду.
– Делать ему больше нечего, кроме как интриговать твоих одноклассников.
– Раз ты такой вредный, то я сама его попрошу, когда он к нам придет. Он мне не откажет.
– Ты так думаешь?
– Конечно… он очень хорошо ко мне относится и рассказывает всякие забавные истории. А ты… Почему ты так мало разговариваешь со мной?
– О чем?
– Ну, не знаю… о себе… что ты делаешь на работе?
– Приезжаю на завод, отмечаюсь в табеле, иду на свое рабочее место, настраиваю станок, устанавливаю в нем инструмент, устанавливаю и закрепляю деталь… продолжать?
– А в университете?
– Возьми мои учебники и посмотри… тебе это не будет интересно.
Она вздохнула.
– Знаешь, чего мне хочется? Чтобы у тебя появилась девушка. Она бы приходила к нам, оставалась ночевать… может, даже поселилась бы у нас. И я бы говорила с ней о разных вещах, которые интересны женщинами – о прическах, об одежде, и вообще…
– А с подругами ты об этом не говоришь?
– Так то с подругами… со взрослой девушкой – совсем другое дело.
Да… двенадцатилетней девочке нужна умная любящая мама, или хотя бы старшая сестра вместо брата – угрюмого молчальника, который днем пропадает на лекциях и демонстрациях, ночью – на работе, а в свободное время либо возится со своим мотоциклом, либо дрыхнет как сурок.
– Тебе не нравится никто из твоих однокурсниц?
– Нет.
«Не настолько, чтобы пригласить домой… Не буду пока разрушать ее идиллические представления о взаимоотношениях с приятельницами старших братьев. А сейчас надо спровадить ее в школу и завалиться наконец в постель…»
Он с трудом подавил зевок, чего она не могла не заметить.
– Ну вот, как всегда… ты приходишь домой только для того, чтобы поспать, а потом опять куда-то исчезаешь… и по ночам тебя никогда не бывает. Ты не можешь устроиться так, чтобы работать днем?
– Днем у меня занятия, разве ты не знаешь? К тому же за ночные смены больше платят.
– Ты вечно говоришь о деньгах.
«Если бы о деньгах, – а то об их отсутствии.»
– Денег у нас в обрез, и нам придется жить очень экономно до тех пор, пока я не окончу университет. Тогда я найду работу по специальности, и все проблемы будут решены. А когда ты закончишь школу, я смогу спокойно оплатить твое дальнейшее образование.
Ее унылая мордашка недвусмысленно говорила о том, что, хотя она и сама отлично всё понимает, занудный рационализм его нотаций – не самое верное утешение. «Она еще маленькая, а учитывая, с чего начался весь этот разговор… Нужно как-то по-другому…»
– Послушай… раз уж так вышло, что мы остались вдвоем, то надо терпеть неудобства и помогать друг другу. Я делаю что могу для того, чтобы у нас была нормальная жизнь и тебе было хорошо. Возможно, у меня не всё получается, но я очень стараюсь. Это не всегда легко…
Он по-прежнему сидел перед ней на корточках, их лица были на одном уровне, и они смотрели в глаза друг другу так долго и с такого близкого расстояния, как бывало очень редко… «Ее глаза не серо-зеленые, как мои, а ближе к светло-карим, и она этим страшно недовольна, как могут быть недовольны только девчонки. А когда я однажды сказал ей, что такой цвет тоже совсем неплох, то она выпалила до смешного возмущенно: «Да я вообще всегда хотела голубые!» – точно о платье или туфельках… Зато нос у нее будет гораздо правильнее, чем у меня, уже сейчас видно – тонкий, прямой и не слишком длинный. Это здорово, а то ведь носы – еще один распространенный повод для недовольства. Нет, она вырастет очень симпатичной, тревожиться ей не о чем. Она просто чудесная, и поскорей бы на смену этому остолопу Альберу пришел какой-нибудь достойный ее друг… а уж я прослежу, чтобы всё было в порядке.
Как же тоскливо мне было бы без нее…»
Он не знал, что высмотрела она в его глазах, но она вдруг наклонилась к нему и обняла крепко-крепко. Стиснула изо всех сил – неловко, поверх его опущенных рук, так что он не мог тоже обнять ее – и прошептала ему на ухо:
– Я тоже стараюсь…
Он почувствовал, что она дрожит.
Они посидели так, пока она не успокоилась, а тогда он осторожно высвободился из ее объятий.
– Ну ладно, всё, – проговорил он тихо, про себя молясь, чтобы она не обиделась; помимо прочего, у него затекли ноги от длительного пребывания в такой малоудобной позе. – Теперь я лягу спать, а ты отправишься в школу. Договорились?
– Умгу. Но я не буду с ними разговаривать… даже смотреть в их сторону не буду.
– Это как тебе угодно. Только не опоздай на второй урок, – первый ты уже пропустила. Кстати, что это было?
– Рисование… жалко.
Явный прогресс по сравнению с «больше не пойду».
– А второй?
– Английский.
– Замечательно. Язык, необходимый любому современному человеку. Бери сумку, и ноги в руки.
– Yes, sir. Или как там отвечают военные в кино – «affirmative»*.
«Ну вот, как будто бы всё утряслось. Но, чует мое сердце, таких бесед предстоит еще немало. И пускай, – главное, чтобы она делилась. Доверяла мне во всем…»
Сбегав в свою комнату за школьной сумкой, она, разумеется, застряла на некоторое время перед зеркалом в крохотной прихожей. И, в десятый раз проводя щеткой по и так уже гладким волосам (которым, по ее глубокому убеждению, следовало бы быть волнистыми – как у него), задумчиво произнесла:
– А когда мне будет двадцать, то Рене – двадцать девять. Подходящее соотношение.
– Для чего подходящее?
– Чтобы выйти замуж.
«Моя сестра – ветреная особа…»
– А как же Альбер? – рискнул он напомнить.
– Это другое… На одноклассницах не женятся. Муж должен быть старше на несколько лет – женщины ведь раньше стареют. А Рене – твой лучший друг, и я хорошо его знаю, это плюс. И я хочу, чтобы у моих детей были светлые волосы, это очень красиво – а, учитывая цвет моих волос, мне обязательно нужен муж-блондин.
От такого практично-генетического подхода он едва не уронил в мойку собранную со стола посуду.
– Рене уже в курсе того, какие у тебя далеко идущие планы на его счет?
– Нет, что ты… еще рано. Я пока что в него не влюбилась. Вот когда влюблюсь, тогда можно будет спросить… А ты не вздумай выдавать меня раньше времени!
– Ни в коем случае.
Лишь бы она не распознала по голосу, что он улыбается. Это в данную минуту совсем некстати.
Надо поскорее задать какой-нибудь серьезный и положительный вопрос.
– И сколько детей ты планируешь завести?
Судя по тому, как охотно она ответила, проблема была обдумана заблаговременно.
– По-моему, самое лучшее количество – четверо. Старшие мальчик и девочка и еще одна пара, намного младше – как у нас с тобой. Тогда каждому будет с кем общаться – и по возрасту, и по интересам. И всегда кто-то сможет присмотреть за маленькими… Двое старших – это надежнее.
«Да уж…»
Рене, без сомнения, растрогают ее проекты; но этот разговор о грядущей семейной жизни напомнил ему кое о чем – когда еще выпадет такой удобный момент для небольшой разъяснительной беседы на тему, которая не может не смутить ее.
– Раз речь зашла о таких вещах, то я хотел тебя предупредить: если ты почувствуешь, что у тебя болит живот не так, как раньше, или заметишь еще что-то новое – ну, что ты становишься девушкой, понимаешь… не стесняйся сказать мне. Я тебе дам одну книжку, там об этом написано очень популярно, а если ты чего-нибудь не поймешь…
Она выглянула из прихожей с улыбкой, которую можно было назвать… хм, успокаивающей.
– Да ты не волнуйся, я всё это уже знаю – нам рассказывали на уроках гигиены. И ничего особенного тут нет, только противно и куча неудобств. Почему врачи не научатся отключать это до тех пор, когда пора будет выходить замуж и рожать детей? Пока мы маленькие, от этих органов ведь всё равно никакой пользы.
Насколько заметно он краснеет?.. Ну, ничего, еще одним затруднением меньше, спасибо составителям школьных программ.
– Как устроены мальчики, мы тоже проходили. Им, конечно, проще, чем нам – мы и рожаем, и…
– Ты пойдешь наконец в школу? Если ты прогуляешь и второй урок, меня точно вызовут и будут пилить по поводу того, что я плохо тебя воспитываю. А я не хочу терять время на такую ерунду, как выслушивание поучений от твоей учительницы.
– Ты меня нормально воспитываешь. И ты должен знать, что я подготовлена к тому, чтобы стать женой и матерью.
* * *
Если это осуществилось и не совсем так, как она рассчитывала в двенадцать лет… она не казалась разочарованной. У нее всё так хорошо, как только можно пожелать. И эта полу-встреча – точно через стекло с односторонней прозрачностью – окончательно подтвердила, что за нее он может быть спокоен. Ему тут делать нечего, а воспоминания о ее счастье послужат для него поддержкой – и свидетельством того, что его совесть чиста хотя бы в чем-то.
«Здесь – никаких долгов. Я вправе считать себя свободным…»
Он пронаблюдал за воскресным походом маленького семейства до самого перекрестка, где оно свернуло за угол, очевидно направляясь в детский парк, и, когда они скрылись из виду, медленно тронул машину с места.
* * *
Он возвратился в город. Ему хотелось прогуляться по Парижу на прощание. Пока что он, можно сказать, не вылезал из машины, если не считать минуты-другой, потраченных на то, чтобы преодолеть расстояние между ней и подъездом.
«Вволю надышаться живым уличным воздухом, избавившись от медицинских запахов, которые пропитали меня насквозь, испытать способность ходить, восстановленную с немалыми трудами, и почувствовать себя вне Отдела…»
Машину он бросил в каком-то переулке у площади Бастилии – с соблазнительно приотворенной дверцей и ключами в замке зажигания. Место это бойкое, и вскоре кто-нибудь непременно приберет ее к рукам, посмеявшись про себя над безвестным растяпой.
Представление о том, куда податься, по-прежнему было весьма неопределенным, но он уже знал, что для этого понадобится не машина, а самолет…
Через мост Сюлли он перешел на левый берег и двинулся по набережной в сторону Сите.
Избегайте любых травм головы и не перегружайте ноги, настоятельно посоветовали ему, отпуская из медчасти. Старайтесь вообще не перегружаться. Вы должны привыкнуть к той мере здоровья, которая теперь у вас есть. Учитывая то, какой активный образ жизни вы вели до сих пор, не удивляйтесь, если это получится далеко не сразу.
«Вот и начну привыкать. Самое время, не так ли?..»
Передвижение в условиях города несколько… да что там говорить, сильно отличалось от ходьбы по идеально ровным полам медчасти и спортзала. Ступеньки, бордюры, лужи, выбоины… Он потихоньку ковылял по влажной брусчатке под раздражающе однообразное постукивание костыля, и резкий сырой ветер ранней весны, летящий вдоль Сены, лохматил ему волосы и задувал под очки, неприятно холодя дыру на лице, – новая кожа, собранная хирургами из уцелевших клочков, всё еще сохраняла повышенную чувствительность, хотя швы полностью зажили. В неподвижной кондиционированной атмосфере Отдела это не ощущалось как дыра, но здесь, в обычном мире, где ему ныне предстояло существовать, имелась такая вещь, как погода – и ветер, пробивающийся, казалось, до самого мозга.
«Я и к этому привыкну.»
Слова Юргена о шоке были абсолютно правильными – то же узнаваемое сочетание отстраненности и обострившегося восприятия деталей, усталого безразличия и смутного стремления куда-то прочь, вдаль… слабости и не-покоя. Окружающее было таким ярким, громким – и одновременно на некотором расстоянии. Можно безо всякой спешки исследовать его, сравнивая с теми образами, что хранила память, словно ты вернулся после отсутствия столь долгого, что многое могло непредсказуемо измениться.
Да это и есть возвращение, в определенном смысле. Возвращение с той стороны, невозможный путь назад – Алиса, карабкающаяся вверх по стенам кроличьей норы.
Он спустился на нижнюю часть набережной, поближе к реке. Там уличные шумы звучали тише, и не было никого, кроме нескольких прохожих в отдалении. Пахло речной водой, готовящимися пробудиться почками, мокрой после дождя землей и древними камнями. Впереди и справа над острым мысом Сите поднимались башни Нотр-Дам, и неправдоподобно тонкий шпиль вонзался в туманное небо, а не доходя моста Архиепископства к берегу была пришвартована баржа – из тех, что избирают себе для жилья некоторые любители оригинального. На ее плоской крыше была расстелена циновка, на которой восседал в позе лотоса широкоплечий темноволосый человек в серой шерстяной куртке поверх белого кимоно. Судя по рукам, расслабленно лежащим на коленях, и полузакрытым глазам, обитатель баржи предавался медитации, глубина которой вызывала только зависть.
По набережным он мог бродить до бесконечности – раньше мог. С начала этой прогулки не прошло и часа, а он уже принялся нетерпеливо оглядываться в поисках чего-нибудь, куда можно сесть. Ноги, одеревеневшие от боли и усталости, буквально отваливались, и спина тоже молила о передышке («Спасибо жилету, а то не миновать бы мне коляски…»), хотя целый час – это достижение, заслуживающее того, чтобы им гордиться.
Почему тут совсем нет скамеек?
Он уже вознамерился было опуститься прямо на бордюр, махнув рукой на чистоту пальто – ноги не держали совершенно – как заметил ящик, очень кстати оставленный каким-то запасливым рыболовом. Он присел на этот ящик и постарался пристроить ноги так, чтобы они отдохнули, что было не самой простой задачей на таком маленьком и жестком сидении. Его избаловала возможность лечь в любую минуту – хотя бы на пол, если, как не раз случалось под конец сеанса пыток, именовавшихся лечебной физкультурой, ноги начисто выходили из повиновения, и не от одной боли, которую можно перетерпеть…
Он сосредоточенно уставился на аккуратные прямоугольники камней, которыми была вымощена набережная, пытаясь усилием воли остановить их движение. Они плавно покачивались, как и дома на противоположном берегу. Но в голове было тихо – ни шороха, ни звона. «Это никакая не перегрузка, а элементарный избыток ВНЕШНЕГО после многих дней затворничества… правда, если судить объективно, то доза новых впечатлений весьма скромная. Умиротворяющая обстановка почти родного города… но не притворяйся перед самим собой, что всё дело только в переутомленных мышцах. Адаптация… никуда не деться от этой неизбежной постепенности, которая всё-таки терзает меньше, чем… тот ущерб, что не исправить.
Ничего, сейчас всё пройдет…»
Он вскинул голову на звук шагов – «я обязан был среагировать намного раньше… черт, никак не освоюсь с этим сокращением поля зрения – процентов на двадцать как минимум». К нему подходил человек с баржи.
– Вам не нужна помощь?
Вопрос был задан по-французски, но с акцентом британца… не англичанина.
– Простите?..
Ну конечно, – за эти месяцы подземной жизни он должен был изрядно побледнеть. Вдобавок ко всему остальному.
«Вот как я выгляжу со стороны – немощный калека, весь вид которого взывает о… До чего же отвратительно.»
Внимательные темно-карие глаза, смотревшие на него из-под густых бровей, были полны озабоченности тем, что помощь, в уместности которой не возникает сомнений, будет по какой-то причине отвергнута.
– Если вам надо посидеть или прилечь, вы можете сделать это у меня, – человек кивнул через плечо на свое обиталище. – Там гораздо удобнее.
Безусловно. А вечная настороженность, неотделимая от прежней жизни… ее время прошло. Теперь он обыкновенный человек, который может не опасаться случайных встреч, разговоров… знакомств… Но разве от них удерживает лишь страх за свою безопасность? «Я всегда был одиночкой, и поздно меняться… Мне еще никогда не предлагали помочь. Но я не имею права рассчитывать на кого-то, кроме самого себя, – а если начать с поблажек…»
Прежде чем с его губ сорвалось автоматическое «Нет, спасибо», владелец баржи, отвлекшийся ради него от своих медитативных упражнений, проговорил:
– У одного из моих лучших друзей протезы обеих ног. Он был летчиком во Вьетнаме.
«Что там насчет людей, которые понимают меня?..»
И знают, как уговорить.
– Мне бы не хотелось затруднять вас… – сказал он уже только из вежливости, и человек в кимоно твердо возразил:
– Никаких затруднений. Пойдемте.
Он сумел благополучно встать, добраться до сходен и спуститься вниз, хотя тот, кто его пригласил, держался рядом, явно готовый подхватить его, если понадобится. Но ему удалось даже ни разу не споткнуться на ступеньках, которые вели в то, что некогда являлось трюмом, а теперь было преобразовано в жилое помещение; неуклюже переступая по коротенькой лестнице, он жалел об отсутствии каких-никаких перил и думал, что, вероятно, очень напоминает хозяину своей походкой того самого друга на протезах.
«Да, я воистину легко отделался…»
Первое, что бросалось в глаза – обитый белой кожей диван от борта до борта; и повалиться на него было непередаваемым облегчением. Откинуться на толстую упругую спинку и вытянуть измученные ноги… нет, ложиться – это чересчур.
– Располагайтесь как вам удобнее, – предложил хозяин, сбросив куртку и направляясь в отгороженный уголок, исполнявший роль кухни. – Выпьете что-нибудь? В моем баре найдутся напитки на любой вкус… лучшая замена обезболивающему, которого, к сожалению, у меня нет.
Он отказался, и хозяин не стал настаивать. Не назвал своего имени и не задавал никаких вопросов – человек, которого не тяготит молчание, который видит основной источник неловкости – для других, в первую очередь – в ненужных словах…
Обстановка баржи была достойна изучения. Помимо благословенного дивана, она состояла из широкой деревянной кровати в японском стиле, помещавшейся на небольшом возвышении в носовой части, нескольких кожаных кресел вокруг низкого, но обширного стола, маленького камина, стеллажей, заполненных предметами, которые очаровали бы скорее археологов и этнографов, чем торговцев антиквариатом, пары грубых железных подсвечников в человеческий рост, стопок свежих газет и массы книг, – многие из них были как минимум не моложе прошлого века. Среди фолиантов, которые своими заскорузлыми от исторических бурь кожаными переплетами и несомненным пергаментом страниц довели бы любого букиниста до истерического экстаза, угнездился ноутбук новейшей модели, столь же органично вписывающийся в это смешение эпох и народов, как и одежда его владельца, и треугольная серебряная заколка с узором из переплетающихся лоз, стягивавшая на затылке его волосы.
У бывшей рубки был разобран пол, и ее стеклянные стены превратились в одно огромное окно верхнего света.
«Вот жилище, целиком устроенное сообразно вкусам и пристрастиям своего хозяина – здесь нет ни одной безразличной ему вещи, равно как и намерения произвести эффект на гостей – это нетрудно определить. Вся эта экзотика без исключения – для самого себя, для своей души… впрочем, его друзьям здесь тоже должно быть неплохо. А я пока еще не знаю, каким хочу видеть мой дом и где он будет находиться. Ненамного же я продвинулся в своих планах после той беседы с Никитой…»
Он пробыл в этом достопримечательном месте около часа. Хозяин возился в кухонном углу, чистя и нарезая овощи, потом ненадолго прервался, чтобы ответить на звонок кого-то, кого он назвал Джо, и растопить камин, располагавшийся почему-то не у стены, а чуть ли не в центре помещения; он по-прежнему молчал, не навязываясь с разговором, но видно было, что присутствие постороннего в его доме не доставляет ему никакого неудобства – это было молчание спокойной доброжелательности… «такое же, как и первые слова, с которыми он обратился ко мне. Он производит впечатление человека, обоснованно уверенного в своей силе и безопасности, и благодаря этой уверенности отлично ладящего с миром и людьми, которые его населяют… гармоническая личность. И наверняка он не жалуется на недостаток друзей.»
Не желая злоупотреблять чужим радушием, он поднялся, едва почувствовал, что ноги снова согласны держать его.
– Вы достаточно отдохнули?
– Да, благодарю вас.
Поначалу он еще собирался пусть не дойти, но доехать до Монмартра и, постепенно спускаясь от церкви Сакре-Кёр, побродить по его улочкам, непохожим одна на другую, – то превращающимся в лестницу, то перегороженным непринужденно растущим деревом, неуправляемыми зарослями дикого винограда или мольбертом какого-нибудь прилежного последователя Утрилло.
Но какой там Монмартр… несмотря на отдых у гостеприимного обитателя баржи, так и оставшегося для него безымянным, он не мог без содрогания подумать об этих лестницах, спусках, булыжных мостовых, да и, если уж быть откровенным, об одной перспективе вновь идти куда-то на этих проклятых ногах, которые яснее ясного давали ему понять, что для первого раза с них хватит.
Итак, с Парижем покончено.
Остановив такси, он велел ехать в Орли.
* * *
Из маленького кафе на галерее, где он устроился, открывался вид на зал ожидания и табло с расписанием рейсов. Звуки аэропорта, приглушенные тем, что большая их часть оставалась где-то внизу, не нарушали его рассеянных размышлений. Он зашел в это кафе, потому что надо было что-нибудь съесть – у него ничего не было во рту со вчерашнего вечера… «с последнего ужина ТАМ. Отдел постоянно напоминает о себе, и это будет продолжаться еще долго. Ничего не поделаешь…» Однако он был слишком глубоко погружен в свои мысли, чтобы испытывать голод, и пока что не прикасался к заказанной еде.
По-аэропортовски приятно-безликие голоса через короткие паузы сообщали о посадках, взлетах, опозданиях и тому подобном, и он отрешенно прислушивался к названиям городов, словно изучал меню в ресторане, куда заглянул без особой цели.
Можно не торопиться с выбором… теперь-то ему точно спешить некуда.
Но было и еще кое-что. Та самая пустота, которую так спокойно, как нечто преходящее и не вызывающее опасений, упоминал Юрген, дала себя почувствовать. Отсутствие желаний, цели. Он может просидеть здесь хоть несколько суток («ну, положим, «просидеть» – это фигурально выражаясь, отдохнуть так, как мне необходимо, я могу только лежа…») – и никому не будет до него дела. Никто не предъявит прав на его время, силы, интеллект, на великолепные умения, не все из которых остались в прошлом. Он свободен – но отвык быть ненужным.
Сегодняшний день подвел черту под всем, чего он лишился, под многолетним жизненным укладом, что включало работу, всех знакомых, квартиру, вещи, фамилию, красоту и здоровье. «Что в активе? Полная независимость, в том числе и материальная, – наконец-то я всецело принадлежу самому себе и могу строить свое существование по собственному усмотрению – разве не этого я всегда хотел… и я выбрался на поверхность в лучшем состоянии, чем ожидал – с хромыми, но худо-бедно работающими ногами и не утратив волю к жизни… и теперь весь мир передо мной. Надо обдумать, что я буду делать в этом новом мире – и где…»
– «Начинается посадка на рейс Париж – Москва…»
То, что побудило его обратить внимание на это ничем не отличающееся от остальных объявление, было вызвано неясной цепочкой ассоциаций; и на конце ее было нечто о нем, об этом дне… сущность его положения, выраженная до боли просто.
Первыми вспомнились ритм, мелодия… затем из них выросли слова, удержанные натренированной памятью заодно со множеством других деталей множества других заданий:
Where shall the soldier home from battle
Go now, to whom his sorrow bear?*
(* Куда же теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?)
Завербованная в России оперативница Свэтлэйна, сокращенно – Свэта, с которой ему однажды довелось работать… У нее была масса художественных талантов, каковым находилось применение в некоторых специфических операциях. В тот раз они с ней изображали романтическую влюбленную пару, и на определенном этапе от них требовалось сидеть на балконе загородного отеля (где их было прекрасно видно тем, ради кого всё и затевалось), и он должен был самозабвенно слушать, как поет Свэта. Пела она и правда хорошо, у нее был красивый и отлично поставленный голос; сценарий задания, не уточняя репертуар, предписывал только, чтобы это было что-нибудь несложное и задумчивое, можно даже грустное – и она исполнила русскую военную песню в своем переводе на английский (так она ответила на его заинтересованный вопрос, и интерес этот был не таким наигранным, как могло ей показаться).
Свэта была не более жестока, чем необходимо в их деле, и против него лично ничего не имела – он был твердо в этом уверен. Она не знала о Симоне и ее судьбе, иначе безусловно выбрала бы что-то другое:
He stood with tears of sorrow welling
And scarcely able breath to draw,
He said: “Praskovya dear, come welcome
Your hero-husband back from war.
Prepare a meal for merrymaking,
A cloth upon the table lay.
It’s now we should be celebrating
My safe return, this holiday.”
But in reply there came no answer,
No welcome for the soldier brave…**
(** Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя-мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, -
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел.»
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал…)
Дальше было про то, как солдат пил на могиле жены, оплакивая разлуку; он слушал это с нежной улыбкой, что при его подготовке не составляло никакого труда, и отмечал про себя высококачественную работу Свэты: «Те, кто наблюдают за нами, уже на крючке, операция идет как по маслу… мы убедительны в нашей роли. Когда вернемся, порекомендую чаще привлекать ее к таким заданиям. Она на редкость артистична…»
Типично рабочие мысли – ничего лишнего. А отключенные эмоции не причиняли беспокойства.
Сейчас это воспринималось по-другому.
This veteran, to grief succumbing,
Had long and worthy service seen:
“I’ve been four years in all in coming,
A victor in three lands I’ve been…”***
(*** Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»)
«Долгая и достойная служба… Победитель? Я не чувствую себя таковым, хотя с формальной точки зрения… Я же сам всегда говорил начинающим оперативникам, если с ними происходило что-то похожее: «Ты помог спасти много невинных людей». Это наша главная награда и утешение, тот стержень, что должен служить опорой для души.
Куда идти в мире, где меня никто не ждет?
Рене – вот кого бы искренне обрадовало мое воскресение из мертвых. Можно было бы попытаться разыскать его, – правда, без информационных ресурсов Отдела это очень сложно, но в принципе выполнимо. Сомневаюсь, что на него имеются какие-нибудь новые сведения – он числится бездействующим уже много лет, и ему повезло, что он не привлекает к себе внимания, потому что если он примется за старое и Отдел возьмется за него, то его ничто не спасет. И меня бы непременно использовали в качестве консультанта, а то и руководителя операции по его захвату – кто знает Рене лучше, чем я… И мне пришлось бы идти против него – после всего, что он для меня сделал. И я бы исполнил свой долг…
Всерьез думать о его поисках не приходится. Выражаясь его словами, мы с ним по разные стороны баррикад. Я бесповоротно ушел от того, что мы творили в молодости, и возврата быть не может.
Трудно вообразить, чтобы Рене, с его неистовой убежденностью, сам навсегда отказался от того, что чистосердечно считал борьбой за правое дело, но все мы меняемся с возрастом – или, вернее будет сказать, людям, которые сами распоряжаются собой, ничто не мешает меняться… Если он успокоился – тем лучше для всех.»
Неумолимая логика памяти заставила подумать и об одном давнем – так и не состоявшемся – задании. Тогда он был счастлив, что оно не состоялось; но теперь…
Ему предстояло не просто обольстить, а вступить в брак – то есть разыграть убедительную страсть, влюбить в себя, довести до алтаря и прожить по меньшей мере несколько лет в любви и согласии с дочерью богатейшего, могущественного и абсолютно неуловимого террориста; она не знала, что представляет из себя ее отец, и не видела его с раннего детства, когда он бросил семью, но в Отделе полагали, что когда-нибудь он решится на контакт с дочерью – других детей у него не было. Проект разработали довольно подробно, но в результате от него всё же отказались, сочтя чересчур окольным и ненадежным.
Это происходило еще при Симоне, и с того дня, как его наметили в исполнители, он со страхом ждал момента, когда оттягивать дальше будет уже нельзя и придется сообщить ей. Но всё обошлось… к счастью ли? «Если бы это задание не завершилось до сих пор – а исходя из имевшихся сведений о Саве Вачеке, это было вполне вероятно – меня бы не отпустили из Отдела. Волей-неволей нашли бы мне какую-нибудь бумажную работу, и оставалось бы только дожидаться пробуждения отцовской любви у объекта… Любопытно, что думает начальство о том нереализованном плане? Быть может, радуется проявленной некогда дальновидности – о Елене Вачек было известно очень мало, и кто знает, как бы она отнеслась к покалеченному и изуродованному мужу… Достало бы мне актерских способностей на такую долгую игру? И что означала бы для меня эта семейная жизнь… дом? Вдруг это переросло бы во что-то более реальное, во что-то еще, помимо повседневной роли? Хотя бы немного…
И не избежать вины перед Симоной…
Дети. У меня мог быть ребенок. Живой. Я бы пошел к нему сейчас. И если что-то и могло бы удержать меня…. Я не посмел бы совершить самоубийство, если бы где-то дома мой ребенок ждал своего папу. Вот в чьих силах было бы спасти меня от того, что я сам сделал с собой.
А что было бы после выполнения задания? Еще одна разлука навсегда?..
Есть кое-что, чего ни один человек не знает о себе: сколько он способен выдержать и что именно его сломает. Я продвинулся по пути познания этих вопросов дальше, чем стремился… и, пожалуй, дальше многих в Отделе, хотя гордиться здесь нечем. И всё, чего я хочу – это остановиться и сойти с дистанции. И после краткой передышки – впрочем, почему же краткой? Ее длительность я установлю сам, всё в моей власти – заняться изучением других своих качеств, помимо выносливости.»
Итак, ГДЕ?..
Чем-то этот поиск отправной точки сродни чувству, с которым в детстве, готовясь нарисовать домик, приставляешь карандаш к облюбованному месту на листе бумаги, чтобы начертить первую горизонтальную или вертикальную линию, которая станет фундаментом или стеной, основой всей конструкции…
«Я смогу осуществить свою давнишнюю, забывающуюся уже мечту – поселиться на морском побережье. В Марселе мы жили так далеко от моря, что его присутствие нисколько не ощущалось, и я всё мечтал, что когда-нибудь мы переберемся поближе к воде. Океан… и чтобы климат не очень отличался от привычного мне – пальмы, кактусы и тропическая жара не прельщают меня в качестве постоянного окружения.
И, конечно, не в городе. Пусть людей вокруг будет поменьше, хотя бы на первое время. Свой дом… простор, тишина и свобода.
Уехать куда-нибудь подальше… Америка или Канада? Нет, Канада отпадает – слишком северно, а я хочу купаться целое лето…
Эти сплошные «хочу» – еще недавно такие немыслимые… я превосходно научился запрещать себе мечты, сознавая их бессмысленность – а теперь их осуществление зависит от одного меня… первые робкие шаги навстречу новым радостям. Шаги? Да у меня крылья вместо ног… Вместо. О равноценности обмена поразмыслю как-нибудь потом. А мои ближайшие планы предельно просты: купить билет до Нью-Йорка.»
С теми документами, что ему выдали, он может без каких-либо затруднений и проволочек улететь куда и когда вздумает; остается изучить список рейсов и, выбрав нужный, дождаться отлета.
Он так ничего и не съел; хотел было отхлебнуть остывшего кофе, но передумал – холодная вода гораздо привлекательнее. Ею он и завершил свое затянувшееся пребывание в кафе, к несомненному облегчению официантки, у которой, видимо, уже начал вызывать беспокойство своим праздным сидением за столиком.
«Поужинаю в самолете… а если к тому времени еще и захочется спать, то совсем хорошо.
Уже вечер… он всегда наступает внезапно, если не думаешь о нем. Первый день свободы клонится к закату…»
* * *
Кафе было безотчетно найденным убежищем – он понял это, присоединившись к очереди на регистрацию. Навстречу шла молодая американка с мальчиком лет пяти; тот усиленно тянул маму за руку и о чем-то спрашивал, указывая на расписание. Эта пара как раз поравнялась с ним, когда мальчик, по-прежнему глядя вверх, повернул голову и натолкнулся взглядом на него. На его лицо. С самого близкого расстояния, какое может быть, учитывая различие в росте.
Ошеломление и ужас в глазах ребенка заставили его почувствовать рубцы свежими ранами, опаляющими кожу – все, не только те, что не были прикрыты очками и волосами. Мальчик заметил и костыль, и то, как неловко он переступил с ноги на ногу, продвигаясь на пару шагов вместе с тронувшейся с места очередью, – и чуть не вывернул себе шею, оглядываясь, когда мама потащила его за собой.
«Он видит такое впервые… Бесспорно, детей надо знакомить с тем, что называется «правдой жизни» или «суровой действительностью», а проще говоря – со злом и страданиями; но как же понятно стремление подольше оберегать их, отсрочивая это знакомство настолько, насколько получится, до последнего – на это толкает надежда, что к тому времени, как дети подрастут, какую-то часть зла удастся победить, уничтожить без следа, и им не придется узнавать о ней и вовсе… По-видимому, из меня, как из бывшего специалиста по искоренению зла, вышел бы не очень-то здравомыслящий воспитатель – излишне склонный ОГРАЖДАТЬ… мне было бы чересчур тяжело от боли ребенка. Дети не должны мучиться от страха…»
Женщина с мальчиком, как оказалось, тоже летели в Нью-Йорк и встали сразу же позади него. И, не прошло и минуты, как за спиной раздалось:
– Мам, а почему дядя такой?
– Потише, Бенджи, не надо так громко… Наверное, из-за аварии или несчастного случая.
– Это как упасть с велосипеда?
– Примерно так, только намного больнее.
– Ему и сейчас больно?
Этого откровенного испуга в детском голосе он не мог вынести. «Если ты можешь что-то сделать…»
Он обернулся – неторопливо, чтобы не напугать мальчика еще больше – и сказал с самой широкой и приветливой улыбкой, из тех, к которым привыкли американские дети:
– Нет, мне совсем не больно, не беспокойся. Со мной всё о’кей, я уже почти выздоровел.
Мальчик, всё-таки шарахнувшийся – от его движения, не от слов – смотрел недоверчиво, покрепче вцепившись в руку мамы, ответная улыбка которой была смесью смущения и признательности.
– Ох, извините, пожалуйста… и спасибо вам. Извините…
– Ничего.
«Что за абсурд это мое ощущение вины перед ребенком за то, что ему пришлось увидеть… Когда они прилетели в Париж – случайно не четыре месяца назад? «У Джей-Би есть то, что нужно «Стеклянному Занавесу» – электросхема аэропорта Орли…» Нерушимое правило спасателей всех специальностей – не встречаться с теми, кому вы помогли; но никому из нас не дано знать, как часто мы нарушаем это правило, проходя по улице мимо людей, не подозревающих о том, кто мы такие… Ни мы, ни они никогда не узнают…
Больше я никого не спасу. Это тоже утрата… еще одна часть меня, отсеченная… да, мной самим, если разобраться. И те люди, чьи жизни мне не сохранить… буду надеяться на то, что это возьмет на себя кто-то другой. Кто-то более… компетентный. Пока существует Отдел, этим есть кому заниматься.
Прощайте, все, кто будет спасен не мною. И простите меня. Я не могу… Я больше не могу делать то главное, что умел.
Скорей бы объявляли посадку. Сил нет стоять…»
Пришел его черед протянуть паспорт через стойку пограничного контроля. Он знал, что сейчас произойдет, и заранее проклинал свою дурацкую чувствительность, неподобающую разумному человеку («Ты жив, и всё срослось – что тебе еще надо? Что тебе за дело до того, какое впечатление ты производишь на людей, которых видишь первый и последний раз в жизни, и то мельком?»); и всё равно внутри что-то болезненно напряглось, когда он услыхал неизбежное:
– Будьте добры, снимите очки.
«Удачно, что на сей раз Бенджи вместе со своей мамой очутился где-то в другой части очереди – в противном случае все мои предыдущие старания успокоить его пошли бы насмарку…»
Как легко иметь дело с профессионалами, которых ничто не удивит, с этой ничем не нарушаемой бесстрастностью проверяющего взгляда – на лицо, на фотографию, снова на лицо… Ему пришла на память медчасть – и те, на результаты чьих трудов смотрит в данную минуту чиновник за стойкой. И то, что они делали… боль, без которой не бывает исцеления. «Теперь предстоит его следующий этап, где всё в моих руках – и я осилю его, потому что жизнь продолжается. Полет к грядущему покою…»
* * *
Ему нечасто приходилось летать пассажиром обычного рейса, и почти все эти случаи были заданиями; поэтому у него не выработалось привычки спать в самолетах – ей просто неоткуда было взяться. Когда возвращались с операций на самолете Отдела, то ему, как командиру группы, тоже чаще всего бывало не до сна…
Место «у окна», и оба соседних кресла пустуют – это сулило тишину и максимально возможный комфорт для ног, хотя, пока он не вытянется во весь рост на ровной и мягкой поверхности, намного лучше им не станет. «Надо потерпеть всего-то шесть часов – ничтожный срок для такого аса по части терпения, каким я стал в Отделе, удаляющемся от меня на полтора десятка километров за каждую минуту.»
Скорость была неощутима – в детстве, когда они всей семьей ездили на каникулы в Испанию, ему не понравилось как раз это: в большом пассажирском лайнере ты не чувствуешь, что летишь, не чувствуешь вообще никакого движения, за исключением взлета и посадки, и от этого путешествие кажется каким-то неполноценным – хотя взрослые, судя по всему, не возражали против этой мнимой неподвижности, настолько результат был для них важнее процесса. А сестра была еще сущей малявкой и даже не понимала, что они куда-то летят, и вид в иллюминаторе не вызывал у нее ни капельки любопытства.
Грех было жаловаться на поездку, в Испании было очень здорово; но его первый полет, именно полет как таковой, стал для него разочарованием, как подарочная коробка, оказавшаяся пустой. Он так ждал, что ощутит себя летящим, оторвавшимся от земли, но напрасно – всё та же обыденность.
В дальнейшем были и вертолеты, и затяжные прыжки с парашютом, когда ты остаешься наедине с небом и твое временно невесомое тело крутят и подбрасывают воздушные потоки – и то изначальное впечатление было оттеснено в один из отдаленных уголков памяти, где хранились детские воспоминания, к которым он не обращался годами…
Всяким воспоминаниям – свой срок? Отправляясь в новую жизнь, так естественно подумать не о той, которая только что завершилась, а о предшествующей – сознание защищается от своего же содержимого, чтобы легче было двигаться вперед.
«Я впервые в воздухе – после…» Негромкий мерный гул моторов «боинга» не шел ни в какое сравнение с грохотанием в вертолете, но его было вполне достаточно для того, чтобы разбудить головную боль, которая только и ждала повода… Темные очки спасали от раздражающе яркого света, но лежали на лице давящим грузом, от которого она делалась еще сильнее. Взятый в дорогу аспирин мало помог, и он принял ее с безропотным равнодушием, как еще что-то, что предстоит сносить в течение некоторого времени.
Отчасти это было причиной того, что благое намерение поесть в самолете не осуществилось. У него никогда не было проблем ни с аппетитом, ни с умением подолгу обходиться без пищи так, что это не влияло на работоспособность; а в медчасти он заставлял себя съедать всё, что давали, потому что это было нужно для скорейшего выздоровления. Но сейчас повторялось то же, что и в кафе: кусок не лез в горло, и стюардесса, забиравшая у него нетронутый поднос, выглядела не менее обеспокоенной, чем та официантка. Получив в ответ на свои заботливые вопросы вежливое заверение, что всё в порядке, она отошла, но каждый раз, проходя мимо него, бросала в его сторону короткий взгляд, не нуждающийся в расшифровке. Он запомнил еще с посадки этот характерный взгляд, деловито отмечающий места, откуда наиболее велика вероятность услышать: «Стюардесса, мне нужна ваша помощь…» Он, разумеется, попал в число отмеченных, вместе с совсем юной беременной, и супругами с грудным младенцем в переносной колыбельке, и тощим стариком, лицо которого было одного цвета с его серым костюмом, а сиплое дыхание доносилось даже сквозь шум двигателей.
Он твердил мысленно, что это безвозвратное изменение его статуса – с защитника на того, кто не может позаботиться даже о самом себе – не должно, НЕ ДОЛЖНО так ранить. «Смирись. И придай новый смысл своему существованию Ты проживешь и без этого, тебе есть с чем жить…
Юрген прав. Найти бы только в себе силы воплотить в жизнь его правоту.»
* * *
Этот полет вслед заходящему солнцу, которое убегало с той же скоростью, с какой они догоняли его, тянулся и тянулся. Смежив веки, он сидел без мыслей, потеряв интерес и к самому ожиданию. Солнце зависло над горизонтом, не двигаясь с места, как на полюсе. Время застыло. Когда они приземлились в аэропорту Кеннеди и перевели часы, то оказалось, что они попали едва ли не в ту же минуту, из которой вылетели, как будто этого путешествия над океаном и вовсе не было. И обстановка не отличалась – то же разноцветное закатное небо с врисованными в него силуэтами самолетов, загорающиеся огни… только здание аэропорта другое. Но внутри всё то же…
– Пожалуйста, снимите очки.
Здесь паспорта проверяла девушка.
Слишком много для одного дня…
А он-то полагал, что уже не чувствует ничего, кроме боли в голове и во всем теле, опустошенности и отупения, как бывало после самых тяжелых заданий, высасывающих досуха все телесные и душевные силы – точнее, их остается ровно столько, чтобы отчитаться перед начальством, доехать до дому («Этого дома у тебя больше нет…»), упасть на кровать и заснуть в ожидании следующего вызова.
«Но нельзя не почувствовать последнюю каплю, после которой – уже через край…»
Такси отвезло его в выбранный наобум отель – какая разница, где провести ближайшие дни, лишь бы там было где лечь и никто не беспокоил. В номере он уронил сумку на пол, туда же швырнул пальто… лишние шаги в сторону ванной были непосильным трудом, который придется перенести на завтра. Когда он доплелся на совсем уже отнимающихся ногах до вожделенной кровати, то его еще хватило на то, чтобы снять ботинки, положить на тумбочку очки и прислонить к ней же костыль, которому, как он усвоил за этот месяц, надлежит всегда быть в пределах досягаемости; а дальше он распластался на мягком и просторном, и больше ничего ему не было нужно. Тело – да и только ли оно? – отвергало любые движения, хотя он еще думал по инерции, что надо бы встать, чтобы проглотить новую порцию аспирина и погасить свет, а потом раздеться и перебраться под одеяло, и подложить подушку или что-нибудь вроде свернутого валиком пледа под левую ногу – так она быстрее успокоится…
Но он не шевелился. Одни эти мелкие практические мысли и были отчетливыми – вместо остальных плавали какие-то невразумительные обрывки… клочья в пустоте. Он достиг временного пристанища и мог остановиться. Не действовать, не думать… отложить всё до той поры, когда он перестанет изнемогать от этой новизны.
Он отвернулся, чтобы не смотреть в потолок – сейчас ему не хотелось смотреть ни на что… и вдруг заплакал.
Он задыхался от мучительного напряжения – это оказалось неожиданно трудным, словно слёз накопилось больше, чем могло вылиться; быть может, причина в том, что он плачет одним глазом…
Слёзы не принесли облегчения, но сделали полезное дело – они усыпили его, и этот самый длинный день наконец закончился.
* * *
Продолжение следует…
Из маленького кафе на галерее, где он устроился, открывался вид на зал ожидания и табло с расписанием рейсов. Звуки аэропорта, приглушенные тем, что большая их часть оставалась где-то внизу, не нарушали его рассеянных размышлений. Он зашел в это кафе, потому что надо было что-нибудь съесть – у него ничего не было во рту со вчерашнего вечера… «с последнего ужина ТАМ. Отдел постоянно напоминает о себе, и это будет продолжаться еще долго. Ничего не поделаешь…» Однако он был слишком глубоко погружен в свои мысли, чтобы испытывать голод, и пока что не прикасался к заказанной еде.
По-аэропортовски приятно-безликие голоса через короткие паузы сообщали о посадках, взлетах, опозданиях и тому подобном, и он отрешенно прислушивался к названиям городов, словно изучал меню в ресторане, куда заглянул без особой цели.
Можно не торопиться с выбором… теперь-то ему точно спешить некуда.
Но было и еще кое-что. Та самая пустота, которую так спокойно, как нечто преходящее и не вызывающее опасений, упоминал Юрген, дала себя почувствовать. Отсутствие желаний, цели. Он может просидеть здесь хоть несколько суток («ну, положим, «просидеть» – это фигурально выражаясь, отдохнуть так, как мне необходимо, я могу только лежа…») – и никому не будет до него дела. Никто не предъявит прав на его время, силы, интеллект, на великолепные умения, не все из которых остались в прошлом. Он свободен – но отвык быть ненужным.
Сегодняшний день подвел черту под всем, чего он лишился, под многолетним жизненным укладом, что включало работу, всех знакомых, квартиру, вещи, фамилию, красоту и здоровье. «Что в активе? Полная независимость, в том числе и материальная, – наконец-то я всецело принадлежу самому себе и могу строить свое существование по собственному усмотрению – разве не этого я всегда хотел… и я выбрался на поверхность в лучшем состоянии, чем ожидал – с хромыми, но худо-бедно работающими ногами и не утратив волю к жизни… и теперь весь мир передо мной. Надо обдумать, что я буду делать в этом новом мире – и где…»
– «Начинается посадка на рейс Париж – Москва…»
То, что побудило его обратить внимание на это ничем не отличающееся от остальных объявление, было вызвано неясной цепочкой ассоциаций; и на конце ее было нечто о нем, об этом дне… сущность его положения, выраженная до боли просто.
Первыми вспомнились ритм, мелодия… затем из них выросли слова, удержанные натренированной памятью заодно со множеством других деталей множества других заданий:
Where shall the soldier home from battle
Go now, to whom his sorrow bear?*
(* Куда же теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?)
Завербованная в России оперативница Свэтлэйна, сокращенно – Свэта, с которой ему однажды довелось работать… У нее была масса художественных талантов, каковым находилось применение в некоторых специфических операциях. В тот раз они с ней изображали романтическую влюбленную пару, и на определенном этапе от них требовалось сидеть на балконе загородного отеля (где их было прекрасно видно тем, ради кого всё и затевалось), и он должен был самозабвенно слушать, как поет Свэта. Пела она и правда хорошо, у нее был красивый и отлично поставленный голос; сценарий задания, не уточняя репертуар, предписывал только, чтобы это было что-нибудь несложное и задумчивое, можно даже грустное – и она исполнила русскую военную песню в своем переводе на английский (так она ответила на его заинтересованный вопрос, и интерес этот был не таким наигранным, как могло ей показаться).
Свэта была не более жестока, чем необходимо в их деле, и против него лично ничего не имела – он был твердо в этом уверен. Она не знала о Симоне и ее судьбе, иначе безусловно выбрала бы что-то другое:
He stood with tears of sorrow welling
And scarcely able breath to draw,
He said: “Praskovya dear, come welcome
Your hero-husband back from war.
Prepare a meal for merrymaking,
A cloth upon the table lay.
It’s now we should be celebrating
My safe return, this holiday.”
But in reply there came no answer,
No welcome for the soldier brave…**
(** Стоит солдат – и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя-мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол, -
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел.»
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал…)
Дальше было про то, как солдат пил на могиле жены, оплакивая разлуку; он слушал это с нежной улыбкой, что при его подготовке не составляло никакого труда, и отмечал про себя высококачественную работу Свэты: «Те, кто наблюдают за нами, уже на крючке, операция идет как по маслу… мы убедительны в нашей роли. Когда вернемся, порекомендую чаще привлекать ее к таким заданиям. Она на редкость артистична…»
Типично рабочие мысли – ничего лишнего. А отключенные эмоции не причиняли беспокойства.
Сейчас это воспринималось по-другому.
This veteran, to grief succumbing,
Had long and worthy service seen:
“I’ve been four years in all in coming,
A victor in three lands I’ve been…”***
(*** Он пил – солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»)
«Долгая и достойная служба… Победитель? Я не чувствую себя таковым, хотя с формальной точки зрения… Я же сам всегда говорил начинающим оперативникам, если с ними происходило что-то похожее: «Ты помог спасти много невинных людей». Это наша главная награда и утешение, тот стержень, что должен служить опорой для души.
Куда идти в мире, где меня никто не ждет?
Рене – вот кого бы искренне обрадовало мое воскресение из мертвых. Можно было бы попытаться разыскать его, – правда, без информационных ресурсов Отдела это очень сложно, но в принципе выполнимо. Сомневаюсь, что на него имеются какие-нибудь новые сведения – он числится бездействующим уже много лет, и ему повезло, что он не привлекает к себе внимания, потому что если он примется за старое и Отдел возьмется за него, то его ничто не спасет. И меня бы непременно использовали в качестве консультанта, а то и руководителя операции по его захвату – кто знает Рене лучше, чем я… И мне пришлось бы идти против него – после всего, что он для меня сделал. И я бы исполнил свой долг…
Всерьез думать о его поисках не приходится. Выражаясь его словами, мы с ним по разные стороны баррикад. Я бесповоротно ушел от того, что мы творили в молодости, и возврата быть не может.
Трудно вообразить, чтобы Рене, с его неистовой убежденностью, сам навсегда отказался от того, что чистосердечно считал борьбой за правое дело, но все мы меняемся с возрастом – или, вернее будет сказать, людям, которые сами распоряжаются собой, ничто не мешает меняться… Если он успокоился – тем лучше для всех.»
Неумолимая логика памяти заставила подумать и об одном давнем – так и не состоявшемся – задании. Тогда он был счастлив, что оно не состоялось; но теперь…
Ему предстояло не просто обольстить, а вступить в брак – то есть разыграть убедительную страсть, влюбить в себя, довести до алтаря и прожить по меньшей мере несколько лет в любви и согласии с дочерью богатейшего, могущественного и абсолютно неуловимого террориста; она не знала, что представляет из себя ее отец, и не видела его с раннего детства, когда он бросил семью, но в Отделе полагали, что когда-нибудь он решится на контакт с дочерью – других детей у него не было. Проект разработали довольно подробно, но в результате от него всё же отказались, сочтя чересчур окольным и ненадежным.
Это происходило еще при Симоне, и с того дня, как его наметили в исполнители, он со страхом ждал момента, когда оттягивать дальше будет уже нельзя и придется сообщить ей. Но всё обошлось… к счастью ли? «Если бы это задание не завершилось до сих пор – а исходя из имевшихся сведений о Саве Вачеке, это было вполне вероятно – меня бы не отпустили из Отдела. Волей-неволей нашли бы мне какую-нибудь бумажную работу, и оставалось бы только дожидаться пробуждения отцовской любви у объекта… Любопытно, что думает начальство о том нереализованном плане? Быть может, радуется проявленной некогда дальновидности – о Елене Вачек было известно очень мало, и кто знает, как бы она отнеслась к покалеченному и изуродованному мужу… Достало бы мне актерских способностей на такую долгую игру? И что означала бы для меня эта семейная жизнь… дом? Вдруг это переросло бы во что-то более реальное, во что-то еще, помимо повседневной роли? Хотя бы немного…
И не избежать вины перед Симоной…
Дети. У меня мог быть ребенок. Живой. Я бы пошел к нему сейчас. И если что-то и могло бы удержать меня…. Я не посмел бы совершить самоубийство, если бы где-то дома мой ребенок ждал своего папу. Вот в чьих силах было бы спасти меня от того, что я сам сделал с собой.
А что было бы после выполнения задания? Еще одна разлука навсегда?..
Есть кое-что, чего ни один человек не знает о себе: сколько он способен выдержать и что именно его сломает. Я продвинулся по пути познания этих вопросов дальше, чем стремился… и, пожалуй, дальше многих в Отделе, хотя гордиться здесь нечем. И всё, чего я хочу – это остановиться и сойти с дистанции. И после краткой передышки – впрочем, почему же краткой? Ее длительность я установлю сам, всё в моей власти – заняться изучением других своих качеств, помимо выносливости.»
Итак, ГДЕ?..
Чем-то этот поиск отправной точки сродни чувству, с которым в детстве, готовясь нарисовать домик, приставляешь карандаш к облюбованному месту на листе бумаги, чтобы начертить первую горизонтальную или вертикальную линию, которая станет фундаментом или стеной, основой всей конструкции…
«Я смогу осуществить свою давнишнюю, забывающуюся уже мечту – поселиться на морском побережье. В Марселе мы жили так далеко от моря, что его присутствие нисколько не ощущалось, и я всё мечтал, что когда-нибудь мы переберемся поближе к воде. Океан… и чтобы климат не очень отличался от привычного мне – пальмы, кактусы и тропическая жара не прельщают меня в качестве постоянного окружения.
И, конечно, не в городе. Пусть людей вокруг будет поменьше, хотя бы на первое время. Свой дом… простор, тишина и свобода.
Уехать куда-нибудь подальше… Америка или Канада? Нет, Канада отпадает – слишком северно, а я хочу купаться целое лето…
Эти сплошные «хочу» – еще недавно такие немыслимые… я превосходно научился запрещать себе мечты, сознавая их бессмысленность – а теперь их осуществление зависит от одного меня… первые робкие шаги навстречу новым радостям. Шаги? Да у меня крылья вместо ног… Вместо. О равноценности обмена поразмыслю как-нибудь потом. А мои ближайшие планы предельно просты: купить билет до Нью-Йорка.»
С теми документами, что ему выдали, он может без каких-либо затруднений и проволочек улететь куда и когда вздумает; остается изучить список рейсов и, выбрав нужный, дождаться отлета.
Он так ничего и не съел; хотел было отхлебнуть остывшего кофе, но передумал – холодная вода гораздо привлекательнее. Ею он и завершил свое затянувшееся пребывание в кафе, к несомненному облегчению официантки, у которой, видимо, уже начал вызывать беспокойство своим праздным сидением за столиком.
«Поужинаю в самолете… а если к тому времени еще и захочется спать, то совсем хорошо.
Уже вечер… он всегда наступает внезапно, если не думаешь о нем. Первый день свободы клонится к закату…»
* * *
Кафе было безотчетно найденным убежищем – он понял это, присоединившись к очереди на регистрацию. Навстречу шла молодая американка с мальчиком лет пяти; тот усиленно тянул маму за руку и о чем-то спрашивал, указывая на расписание. Эта пара как раз поравнялась с ним, когда мальчик, по-прежнему глядя вверх, повернул голову и натолкнулся взглядом на него. На его лицо. С самого близкого расстояния, какое может быть, учитывая различие в росте.
Ошеломление и ужас в глазах ребенка заставили его почувствовать рубцы свежими ранами, опаляющими кожу – все, не только те, что не были прикрыты очками и волосами. Мальчик заметил и костыль, и то, как неловко он переступил с ноги на ногу, продвигаясь на пару шагов вместе с тронувшейся с места очередью, – и чуть не вывернул себе шею, оглядываясь, когда мама потащила его за собой.
«Он видит такое впервые… Бесспорно, детей надо знакомить с тем, что называется «правдой жизни» или «суровой действительностью», а проще говоря – со злом и страданиями; но как же понятно стремление подольше оберегать их, отсрочивая это знакомство настолько, насколько получится, до последнего – на это толкает надежда, что к тому времени, как дети подрастут, какую-то часть зла удастся победить, уничтожить без следа, и им не придется узнавать о ней и вовсе… По-видимому, из меня, как из бывшего специалиста по искоренению зла, вышел бы не очень-то здравомыслящий воспитатель – излишне склонный ОГРАЖДАТЬ… мне было бы чересчур тяжело от боли ребенка. Дети не должны мучиться от страха…»
Женщина с мальчиком, как оказалось, тоже летели в Нью-Йорк и встали сразу же позади него. И, не прошло и минуты, как за спиной раздалось:
– Мам, а почему дядя такой?
– Потише, Бенджи, не надо так громко… Наверное, из-за аварии или несчастного случая.
– Это как упасть с велосипеда?
– Примерно так, только намного больнее.
– Ему и сейчас больно?
Этого откровенного испуга в детском голосе он не мог вынести. «Если ты можешь что-то сделать…»
Он обернулся – неторопливо, чтобы не напугать мальчика еще больше – и сказал с самой широкой и приветливой улыбкой, из тех, к которым привыкли американские дети:
– Нет, мне совсем не больно, не беспокойся. Со мной всё о’кей, я уже почти выздоровел.
Мальчик, всё-таки шарахнувшийся – от его движения, не от слов – смотрел недоверчиво, покрепче вцепившись в руку мамы, ответная улыбка которой была смесью смущения и признательности.
– Ох, извините, пожалуйста… и спасибо вам. Извините…
– Ничего.
«Что за абсурд это мое ощущение вины перед ребенком за то, что ему пришлось увидеть… Когда они прилетели в Париж – случайно не четыре месяца назад? «У Джей-Би есть то, что нужно «Стеклянному Занавесу» – электросхема аэропорта Орли…» Нерушимое правило спасателей всех специальностей – не встречаться с теми, кому вы помогли; но никому из нас не дано знать, как часто мы нарушаем это правило, проходя по улице мимо людей, не подозревающих о том, кто мы такие… Ни мы, ни они никогда не узнают…
Больше я никого не спасу. Это тоже утрата… еще одна часть меня, отсеченная… да, мной самим, если разобраться. И те люди, чьи жизни мне не сохранить… буду надеяться на то, что это возьмет на себя кто-то другой. Кто-то более… компетентный. Пока существует Отдел, этим есть кому заниматься.
Прощайте, все, кто будет спасен не мною. И простите меня. Я не могу… Я больше не могу делать то главное, что умел.
Скорей бы объявляли посадку. Сил нет стоять…»
Пришел его черед протянуть паспорт через стойку пограничного контроля. Он знал, что сейчас произойдет, и заранее проклинал свою дурацкую чувствительность, неподобающую разумному человеку («Ты жив, и всё срослось – что тебе еще надо? Что тебе за дело до того, какое впечатление ты производишь на людей, которых видишь первый и последний раз в жизни, и то мельком?»); и всё равно внутри что-то болезненно напряглось, когда он услыхал неизбежное:
– Будьте добры, снимите очки.
«Удачно, что на сей раз Бенджи вместе со своей мамой очутился где-то в другой части очереди – в противном случае все мои предыдущие старания успокоить его пошли бы насмарку…»
Как легко иметь дело с профессионалами, которых ничто не удивит, с этой ничем не нарушаемой бесстрастностью проверяющего взгляда – на лицо, на фотографию, снова на лицо… Ему пришла на память медчасть – и те, на результаты чьих трудов смотрит в данную минуту чиновник за стойкой. И то, что они делали… боль, без которой не бывает исцеления. «Теперь предстоит его следующий этап, где всё в моих руках – и я осилю его, потому что жизнь продолжается. Полет к грядущему покою…»
* * *
Ему нечасто приходилось летать пассажиром обычного рейса, и почти все эти случаи были заданиями; поэтому у него не выработалось привычки спать в самолетах – ей просто неоткуда было взяться. Когда возвращались с операций на самолете Отдела, то ему, как командиру группы, тоже чаще всего бывало не до сна…
Место «у окна», и оба соседних кресла пустуют – это сулило тишину и максимально возможный комфорт для ног, хотя, пока он не вытянется во весь рост на ровной и мягкой поверхности, намного лучше им не станет. «Надо потерпеть всего-то шесть часов – ничтожный срок для такого аса по части терпения, каким я стал в Отделе, удаляющемся от меня на полтора десятка километров за каждую минуту.»
Скорость была неощутима – в детстве, когда они всей семьей ездили на каникулы в Испанию, ему не понравилось как раз это: в большом пассажирском лайнере ты не чувствуешь, что летишь, не чувствуешь вообще никакого движения, за исключением взлета и посадки, и от этого путешествие кажется каким-то неполноценным – хотя взрослые, судя по всему, не возражали против этой мнимой неподвижности, настолько результат был для них важнее процесса. А сестра была еще сущей малявкой и даже не понимала, что они куда-то летят, и вид в иллюминаторе не вызывал у нее ни капельки любопытства.
Грех было жаловаться на поездку, в Испании было очень здорово; но его первый полет, именно полет как таковой, стал для него разочарованием, как подарочная коробка, оказавшаяся пустой. Он так ждал, что ощутит себя летящим, оторвавшимся от земли, но напрасно – всё та же обыденность.
В дальнейшем были и вертолеты, и затяжные прыжки с парашютом, когда ты остаешься наедине с небом и твое временно невесомое тело крутят и подбрасывают воздушные потоки – и то изначальное впечатление было оттеснено в один из отдаленных уголков памяти, где хранились детские воспоминания, к которым он не обращался годами…
Всяким воспоминаниям – свой срок? Отправляясь в новую жизнь, так естественно подумать не о той, которая только что завершилась, а о предшествующей – сознание защищается от своего же содержимого, чтобы легче было двигаться вперед.
«Я впервые в воздухе – после…» Негромкий мерный гул моторов «боинга» не шел ни в какое сравнение с грохотанием в вертолете, но его было вполне достаточно для того, чтобы разбудить головную боль, которая только и ждала повода… Темные очки спасали от раздражающе яркого света, но лежали на лице давящим грузом, от которого она делалась еще сильнее. Взятый в дорогу аспирин мало помог, и он принял ее с безропотным равнодушием, как еще что-то, что предстоит сносить в течение некоторого времени.
Отчасти это было причиной того, что благое намерение поесть в самолете не осуществилось. У него никогда не было проблем ни с аппетитом, ни с умением подолгу обходиться без пищи так, что это не влияло на работоспособность; а в медчасти он заставлял себя съедать всё, что давали, потому что это было нужно для скорейшего выздоровления. Но сейчас повторялось то же, что и в кафе: кусок не лез в горло, и стюардесса, забиравшая у него нетронутый поднос, выглядела не менее обеспокоенной, чем та официантка. Получив в ответ на свои заботливые вопросы вежливое заверение, что всё в порядке, она отошла, но каждый раз, проходя мимо него, бросала в его сторону короткий взгляд, не нуждающийся в расшифровке. Он запомнил еще с посадки этот характерный взгляд, деловито отмечающий места, откуда наиболее велика вероятность услышать: «Стюардесса, мне нужна ваша помощь…» Он, разумеется, попал в число отмеченных, вместе с совсем юной беременной, и супругами с грудным младенцем в переносной колыбельке, и тощим стариком, лицо которого было одного цвета с его серым костюмом, а сиплое дыхание доносилось даже сквозь шум двигателей.
Он твердил мысленно, что это безвозвратное изменение его статуса – с защитника на того, кто не может позаботиться даже о самом себе – не должно, НЕ ДОЛЖНО так ранить. «Смирись. И придай новый смысл своему существованию Ты проживешь и без этого, тебе есть с чем жить…
Юрген прав. Найти бы только в себе силы воплотить в жизнь его правоту.»
* * *
Этот полет вслед заходящему солнцу, которое убегало с той же скоростью, с какой они догоняли его, тянулся и тянулся. Смежив веки, он сидел без мыслей, потеряв интерес и к самому ожиданию. Солнце зависло над горизонтом, не двигаясь с места, как на полюсе. Время застыло. Когда они приземлились в аэропорту Кеннеди и перевели часы, то оказалось, что они попали едва ли не в ту же минуту, из которой вылетели, как будто этого путешествия над океаном и вовсе не было. И обстановка не отличалась – то же разноцветное закатное небо с врисованными в него силуэтами самолетов, загорающиеся огни… только здание аэропорта другое. Но внутри всё то же…
– Пожалуйста, снимите очки.
Здесь паспорта проверяла девушка.
Слишком много для одного дня…
А он-то полагал, что уже не чувствует ничего, кроме боли в голове и во всем теле, опустошенности и отупения, как бывало после самых тяжелых заданий, высасывающих досуха все телесные и душевные силы – точнее, их остается ровно столько, чтобы отчитаться перед начальством, доехать до дому («Этого дома у тебя больше нет…»), упасть на кровать и заснуть в ожидании следующего вызова.
«Но нельзя не почувствовать последнюю каплю, после которой – уже через край…»
Такси отвезло его в выбранный наобум отель – какая разница, где провести ближайшие дни, лишь бы там было где лечь и никто не беспокоил. В номере он уронил сумку на пол, туда же швырнул пальто… лишние шаги в сторону ванной были непосильным трудом, который придется перенести на завтра. Когда он доплелся на совсем уже отнимающихся ногах до вожделенной кровати, то его еще хватило на то, чтобы снять ботинки, положить на тумбочку очки и прислонить к ней же костыль, которому, как он усвоил за этот месяц, надлежит всегда быть в пределах досягаемости; а дальше он распластался на мягком и просторном, и больше ничего ему не было нужно. Тело – да и только ли оно? – отвергало любые движения, хотя он еще думал по инерции, что надо бы встать, чтобы проглотить новую порцию аспирина и погасить свет, а потом раздеться и перебраться под одеяло, и подложить подушку или что-нибудь вроде свернутого валиком пледа под левую ногу – так она быстрее успокоится…
Но он не шевелился. Одни эти мелкие практические мысли и были отчетливыми – вместо остальных плавали какие-то невразумительные обрывки… клочья в пустоте. Он достиг временного пристанища и мог остановиться. Не действовать, не думать… отложить всё до той поры, когда он перестанет изнемогать от этой новизны.
Он отвернулся, чтобы не смотреть в потолок – сейчас ему не хотелось смотреть ни на что… и вдруг заплакал.
Он задыхался от мучительного напряжения – это оказалось неожиданно трудным, словно слёз накопилось больше, чем могло вылиться; быть может, причина в том, что он плачет одним глазом…
Слёзы не принесли облегчения, но сделали полезное дело – они усыпили его, и этот самый длинный день наконец закончился.
* * *
Продолжение следует…
Продолжение, часть 2
Автор – Инна ЛМ
* * *
За неделю он отдышался, отлежался, приспособился к сложностям своего нового образа передвижения (это относилось не только к ходьбе, но и к вождению машины) и выработал план действий. Начинать поиски дома южнее Бостона не имело смысла – берега заливов Массачусетс и Кейп-Код слишком густо заселены; поэтому он поехал в Бостон, купил там мощный быстрый лендровер и не спеша направился на север вдоль побережья, заглядывая по пути в агентства по торговле недвижимостью.
Ему долго не подворачивалось ничего подходящего. Один дом, более-менее отвечающий его требованиям, оказался чересчур большим и ветхим, другой располагался в людном месте… Он не торопился – ища идеал, нельзя допустить промаха; и спешка здесь противопоказана. К тому времени, как он добрался до Нью-Хемпшира, на заметку были взяты несколько вариантов, но ни один не вызывал желания немедленно осесть именно там. Он уже начал подумывать о том, чтобы попытать счастья по другую сторону континента, в Орегоне – но решил, что не будет разбрасываться и отступит не раньше, чем упрется в границу в Калисе.
И так он очутился в Мэне, на который еще веяло остатками зимних холодов из недалекой Канады, среди темных лесов, где преобладали ели и сосны, и тянущихся на мили широких песчаных пляжей. Дом, о котором он узнал в местном агентстве, ждал его в конце проселочной дороги, поднимавшейся на длинный пологий холм, за которым уже шумел океанский прибой. Дом стоял на открытом месте – лес подступал близко к склону холма, но взобраться на вершину и закрепиться там осмелились только несколько сосен, как будто специально для того, чтобы прикрывать северную стену от канадских ветров. Сосны были старше дома, верхушки их крон поднимались над кровлей, и молодая травка трудолюбиво пробивалась сквозь прошлогоднюю хвою, щедро устилавшую землю.
Метрах в двухстах по другую сторону проселка находился еще один дом – в нем, как сообщили ему, жил старый капитан военно-морского флота в отставке, который всегда проводил осень и зиму у своих родственников во Флориде – соседство вполне приемлемое.
Дом был в превосходном состоянии; прежние владельцы покинули его около года назад. Вся мебель была вывезена, кроме оборудования кухни и ванной, но эта пустота странным образом воодушевляла – полная обещаний, она приглашала приступить к ее преобразованию, выстроить уют и порядок в соответствии со своими представлениями о том, какими они должны быть, – скромный, но вдохновляющий вызов.
Он обошел дом снаружи и остановился на краю обрыва, откуда пустынный берег просматривался в обе стороны до самого горизонта. Ветер гнал к пляжу волны, мутные от взвешенного в воде песка, и он попытался представить себе, что теперь эти звуки будут окружать его постоянно, вместо привычных городских шумов. Временно притягательная экзотика, которая надоест через месяц-другой – или как раз то, что нужно его душе? Не предпочесть ли тишину где-нибудь в лесу?
«Я хочу жить здесь.»
Спуститься на пляж от самого дома было невозможно – тропинка, ведущая вниз, начиналась намного дальше, почти что посередине между обоими домами. Нога человека не ступала на нее с прошлого лета, и весеннее солнце еще не успело просушить покрывающую ее размокшую грязь. Прогуляться по берегу можно будет и завтра…
Уже начало смеркаться, и он вернулся в дом, чтобы осмотреть второй этаж – две большие комнаты. В одной властвовали те самые сосны, концы их ветвей доставали и до того окна, которое выходило на восток. Зато из окон другой был виден, казалось, весь залив Мэн – горизонт отодвинулся, но океан всё равно был у самого лица.
Однажды в молодости, вскоре после того, как он начал работать в Отделе, ему довелось присутствовать в роли официанта на некоем великосветском приеме. О стрельбе, буде таковая начнется, их заранее предупредили бы агенты из наружного наблюдения; и он, курсируя с сервировочной тележкой из кухни в банкетный зал и обратно, думал главным образом о том, что по части неудобства в ношении смокинг оставляет далеко за флагом любые бронежилеты, даже «анти-калашников» пятого класса с пристегнутыми шейной и паховой секциями, – а когда на тебе надето и то, и другое одновременно, жить становится тяжеловато в самом что ни на есть прямом значении этого слова. Дело, конечно, в отсутствии привычки к этим нарядам – и смокинг, и бронежилет он впервые примерил в Отделе…
И, сгружая десерт на один из подведомственных ему столиков, он услышал (и, как оказалось, запомнил) реплику пожилой дамы, аристократическая осанка которой сохранила всю свою прямизну, невзирая на немалый груз бриллиантов и прожитых лет:
– Когда я покупаю новый дом, то руководствуюсь прежде всего видом из окон, поскольку это единственное, что нельзя переделать.
Стоя в своей будущей спальне, он вспоминал эти слова, – безусловно здравый принцип при наличии денег на желаемые переделки.
Сходив к машине за рюкзаком – он возил с собой минимум, нужный для той кочевой жизни, которую вел вот уже полтора месяца – он бросил спальный мешок у стены напротив окна и улегся в него с нетерпением, какого не испытывал давным-давно – скорее бы утро… посмотреть, каким оно будет в этом доме.
Здешний рассвет был ошеломляюще прекрасен. Ночью он просыпался несколько раз, боясь пропустить его; и теперь лежал, надежно укрывшись в мешке от стужи нетопленого дома, и наблюдал, как рассеивается темнота, как небо у самой границы с океаном светлеет, последовательно делаясь пепельно-сиреневым, розовым, золотистым, окрашивая в те же цвета воду, и как появляется солнце, мгновенно выбросившее ослепительную дорожку, соединившую его с берегом.
Тогда он поднялся и вышел в этот свет, прохладу, слабый плеск утихомирившихся за ночь волн и гомон пробудившихся чаек и, с вынужденной медлительностью спустившись по скользкой тропинке, оплывшей за зиму, побрел к воде, увязая в чистом глубоком песке, увлажненном росой. При желании он, пожалуй, мог бы припомнить, когда в последний раз ходил по морскому песку – что это была за операция, и в какой стране, и что он написал в отчете…
«Здесь я сумею… не забыть – но освободиться.»
Он шел вдоль полосы прибоя, пока не устали ноги, а тогда опустился наземь прямо там, где стоял. «Как удобно – что тут, что в лесу… еще один довод в пользу того, чтобы поселиться в этом месте. Садись или ложись где вздумаешь, и никто тебя не увидит…» Он не мог отделаться от чувства стыда за то, что учитывает это.
«Господи, ну когда же я наконец…»
И в этом безлюдье можно ходить без опостылевших очков… достаточно носить их с собой на случай неожиданных встреч.
Он усмехнулся своему смущению – «надо же, какие безделицы тебя заботят… затем наступит пора мучительных колебаний между оттенками краски для пола и стен, полных скрытого драматизма высматриваний какого-нибудь совершенного кресла или неповторимого коврика… В переводе на простой человеческий язык это называется «заниматься собой, своей жизнью». Эдакий тихий гимн повседневности, будням, складывающимся в годы.»
Передохнув, он двинулся в обратный путь, и, когда над обрывом показалась крыша дома, то испытал удивительное чувство – это возвращение впору было назвать возвращением домой… неужели всё из-за того, что он провел тут ночь в спальном мешке на голом полу и полюбовался восходом?
Так или иначе, но он нашел то, что искал; этот дом прямо-таки призывает его, заставляя задуматься о ремонте, обстановке… «проблемах бытового порядка», по определению Мэдлин. И главное то, что ему хочется этим заняться.
* * *
Впервые в жизни он мог выбрать и обустроить себе жилище, руководствуясь исключительно своими вкусами. В детстве он пользовался разумной свободой в том, что касалось оформления его комнаты – и не злоупотреблял этим; когда они с сестрой переехали в Париж, то основополагающими критериями при выборе квартиры были дешевизна и близость к ее школе и его университету; а та квартира, где его поселил Отдел, принадлежала ему в еще меньшей степени, чем предыдущие, и поэтому он не очень-то стремился сделать ее поуютнее. У Симоны время от времени возникали дизайнерские идеи, и в дом привозились то диван, то что-то из посуды, то какой-нибудь замысловатый светильник, который ему следовало немедленно привинтить к стене или потолку в указанном ею месте; но он не разделял ее увлеченности и относился к этим усовершенствованиям с равнодушием, иногда удивлявшим его самого. Быть может, так проявляла себя бессознательная, не умершая до конца надежда на то, что когда-нибудь, в неопределенном будущем он всё-таки уйдет отсюда, неверие – невозможность смириться с тем, что Отдел – это навсегда…
А этот дом – навсегда?
Стремительность, с которой он стал его владельцем и вселился в него, не сказалась на дальнейшем. Не то чтобы его наступательный порыв угас после того, как дом был приведен в мало-мальски пригодный для проживания вид – но жаль было тратить всё время на хозяйственные хлопоты. В спальне появилась кровать, в ванной можно было мыться, а на кухне – хранить продукты и готовить; при его неприхотливости этого вполне хватало для повседневного существования. Всяческие уборки, чистки и покраски подчинялись вдохновению – иногда трудовой энтузиазм сохранялся весь день, а иногда он с самого утра отправлялся обследовать окрестности.
Дни удлинялись, становилось всё теплее; природа одевалась в новую листву и траву, и он, гуляя по берегу, всё чаще пробовал рукой воду – когда же она наконец нагреется настолько, что можно будет купаться.
Возвратившийся из Флориды капитан Джералд Крейторн оказался спокойным и немногословным любителем уединения, которое, видимо, воспринимал как заслуженную награду после службы на флоте. С самого начала знакомства им обоим стало ясно, что никто никому не будет мешать.
Переход к новому образу жизни был нелегок, как ему и предсказывали. Долгожданное лето всё же вызывало стойкое ощущение не в меру затянувшегося отпуска; тело-нервы-мозг слишком хорошо помнили о том, какой великолепно отлаженной системой они были так долго – и еще совсем недавно – и, невзирая на все потрясения, никак не могли согласиться с тем, что их уже не используют так, как прежде. Их бунт принимал разные формы… бывали ночи, когда он внезапно просыпался с совершенно ясной головой, не зная, куда себя девать – ровно треть всей работы, что он сделал за эти семь лет, выпадала на ночь, которая теперь не могла так просто превратиться для него в одно только время отдыха и сна. Организм требовал своей порции ночных нагрузок, и хождения по дому было мало. Вооружившись фонариком и сожалея об отсутствии такой привычной инфракрасной оптики, он спускался на пляж, где можно было не опасаться во что-нибудь врезаться, и утолял свою потребность в движениях и бодрствовании отжиманиями и тем ужасающе неуклюжим и медленным бегом, на который был теперь способен.
Рефлексы восставали против бездеятельности – но с какими предосторожностями приходилось взбираться на ту же приставную лестницу, и сколько раз отрываться от домашних дел из-за того, что больные ноги отказывались работать… Не проходило дня, чтобы он не наткнулся на какое-нибудь новое доказательство того, как мало отныне он может. А сны предлагали утешение – в них он покидал свое ущербное тело и парил в небесах или космической пустоте, где не было ни тяжести, ни боли, ни утомления, и можно было прекрасно обойтись вообще без ног. Такие сны редко завершались приземлениями – чаще всего он вываливался в кровать непосредственно с неба. И это всегда были полеты, так сказать, «в чистом виде», без парашюта, страховочного троса или других устройств, когда-либо державших его в воздухе, хотя такого опыта у него было немало. Они в эти сны не допускались – как нечто чересчур прозаическое и привязывающее к земле.
Легкость, доступную наяву, дарила вода, и он пристрастился к плаванию, благо установилась жаркая погода и весь берег был в его распоряжении. Волны поддерживали его, освобождая от груза собственного тела, возвращая утраченную непринужденность передвижения – приятное разнообразие после сухопутной хромоты. Он вновь чувствовал себя здоровым и сильным, и правды здесь было больше, чем самообольщения – это подтверждал каждый энергичный гребок руками, такими же крепкими и надежными, как и раньше.
Человек, родившийся и выросший в портовом городе, не может быть совсем равнодушен к морю – но то, что творилось с ним сейчас, было открытием заново. Само собой, он не пренебрегал и другими частями своих владений, и много времени проводил в лесу – но, как правило, все его маршруты оканчивались на берегу. Да и прийти домой уже означало увидеть и услышать океан…
Он всё никак не мог насытиться этим открытым пространством, так притягивавшим его. Отлично отдавая себе отчет в том, откуда это берется – нестираемые следы тех дней в медчасти, когда он ПРОВАЛИВАЛСЯ – он, однако, не находил повода для беспокойства. С этим не стоит бороться – пусть всё идет своим чередом, постепенно возвращаясь к норме.
Случалось, что он ночевал на пляже, разостлав свой верный спальник там, куда не добирался прилив. Песок, на котором он лежал, был опорой мягкой и одновременно прочной – под ним была земля, земная твердь – а ветер, овевающий лицо, постоянно напоминал о том, что небо всегда рядом и надо лишь раскрыть веки, чтобы увидеть его.
Вылезти ли в бодрящий холод предрассветного тумана из своего маленького теплого кокона или же дождаться, когда поднимется солнце и стремительно согреет мир, так что внешнее тепло станет привлекательнее того внутреннего, в котором прошла ночь – это зависело только от его прихоти. Свобода проникала в него исподволь, с каждым новым глотком соленого воздуха, порывом ветра, каким-нибудь пустячным выбором вроде направления прогулки или продолжительности заплыва, беспричинно отложенным делом – «почему бы и не прерваться, вернувшись к нему попозже… ведь времени сколько угодно, и всё оно принадлежит мне…»
Так он и встретил осень – осваиваясь с тем укладом, который сам же и избрал для себя и уже выстроил вчерне, – но многое еще предстояло доделать… да хотя бы и в самом доме, как бывает, когда обзаводишься хозяйством с нуля. Дому он стал волей-неволей уделять больше внимания с тех пор, как круглосуточные дожди, пришедшие на смену короткому «индейскому лету», загнали его под крышу, и с купанием пришлось распроститься до будущего года. Тогда-то он и узнал о том, что, как бы безразлично он ни относился к изменениям погоды, у его организма теперь имеется собственное мнение на сей счет. Донимавшие его боли – правда, блаженно слабые отзвуки тех, что были ВНАЧАЛЕ – заставляли чувствовать себя старой увечной развалиной, у которой вечно что-то ноет и ломит то к дождю, то к урагану, то к землетрясению. Это вызывало естественную брезгливость; он не собирался поддаваться своим недомоганиям, пускай и несколько осложняющим жизнь. «Хотя, с другой стороны, надо соблюдать разумную осторожность – установить, что мне по силам, а что нет, и без особой нужды не выходить за рамки. «Беречься» – слово, звучавшее до смешного бессмысленно всего лишь год назад – понятие из самой что ни на есть мирной жизни… а ведь именно такой она и будет. Теперь меня никто не убьет – почти что бессмертие, если сравнить с моим прежним положением, и было бы нелогичной и непростительной глупостью вести себя так, как будто я не ценю этого.»
Но бывали и черные минуты – часы, если быть точным – когда свобода оборачивалась неприкаянностью, а покой – бездельем; боль же оставалась тем, чем была – и вечным напоминанием о прошлом. Он убеждал себя, что это всё из-за нее, из-за того, что она плоховато слушается лекарств, и неутихающий шум океана отдается в голове, да еще никак не получается удобно уложить ноги в постели, хотя она уже превращена в настоящее гнездо из подушек… Но тоска, накатывавшая на него, коренилась не только и не столько в телесных страданиях. ТОТ мир, покинутый навсегда, неохотно отпускал его. Стоило начать засыпать, как сознание наводняли картины былого; дрейфуя на грани между явью и забытьем, он почти машинально планировал какие-то несуществующие операции, разрабатывал схемы, расставлял людей… и всё обрывалось, растаяв под властным натиском сна.
А однажды ночью он проснулся от того, что по лицу текли слёзы. Ощущение какого-то неопределенного неудобства разбудило его и заставило недоуменно вскинуть голову с подушки – вся левая щека была мокрой. Как это нередко бывает, привидевшийся сон забылся в тот же миг, когда вместе со зрением включилось восприятие окружающего мира – и это было к лучшему. Какой прок в том, чтобы помнить кошмары…
Всё еще всхлипывая, он наскоро размял ноги – чтобы только двигались – дохромал до ванной и плеснул в лицо полную пригоршню холодной воды, спеша избавиться от следов своей невольной слабости – или что это было.
«Такие слёзы – беспричинные, во сне – НЕ СЧИТАЮТСЯ, но уже нельзя отрицать, что я научился плакать… умение, без которого я бы превосходно обошелся в любой из жизней.»
После этого сон долго не шел к нему. Это ведь не из-за того, что я боюсь повторения, уговаривал он себя. Но есть вещи, которых стесняешься даже перед самим собой – из гордости и самоуважения…
Незаметно исполнился год с ТОГО дня. Дня гибели Симоны и его неудавшейся попытки последовать за ней. Дня, изменившего так много. Он не испытывал трепетного почтения к датам, относясь к календарю как к некоей принятой для общей пользы условности, и годовщины событий, пусть и важных в момент их свершения, не пробуждали у него никаких эмоций; праздники же с неотделимыми от них ожиданиями чудес и еще не изведанных удовольствий остались в далеком прошлом вместе с детством. К тому же были и другие дни, не менее знаменательные в его судьбе – день ухода из Отдела, запечатлевшийся в памяти тысячью деталей; и день, когда он впервые вошел в этот дом… это добавляло неразберихи в его личном календаре.
Поэтому-то и не было никакого вечера воспоминаний, по сути представляющего собой не что иное, как мучительные попытки воскресить пережитую боль, к которым подталкивает неизбывное чувство вины. Он просто отметил, что вот прошел этот год… год выздоровления. И с неплохими итогами, надо признаться.
Он не мог бы сказать, что о многом передумал за этот год – в иные дни он только и делал, что не делал ровным счетом ничего, кроме того, что дышал, лежа на песке или в траве и глядя в небо – лежал часами, меняя позу лишь тогда, когда уставала спина. Иногда эта роскошь становилась почти что избыточной для него, пока еще не вполне привычного к обрушившемуся на него изобилию – изобилию покоя. Одиночества. Безопасности. Отсутствия тревог.
Смятение находило испробованный выход, тот же самый, который так хорошо помогал при ночных пробуждениях – физическая нагрузка, самая примитивная и безжалостная… бежать, пока не упадешь. А тогда уже вспомнить совет «не перегружаться» – и упрекнуть себя за бессмысленные действия, пообещав, что впредь постараешься справляться со своими переживаниями так, как подобает – силой воли, и ничем другим. Внутренняя дисциплина не должна расшатываться.
Но, несмотря на решимость вести себя благоразумно, он тем не менее ухитрился простудиться глупейшим образом, попав под мокрый снегопад. Зима принесла с собой шторма, и он частенько уходил подальше в лес, чтобы немного отдохнуть от несмолкаемого рева разбушевавшейся Атлантики, которую были не в силах усмирить здешние морозы. На берегу снег не держался – ветер сдувал его с мерзлого песка, принося взамен пену, сорванную с гребней волн; но стоило отойти в лес, под защиту деревьев, как начинались глубокие сугробы. Белизна и тишина успокаивали, и голова переставала ныть.
Среди выполненных им заданий был не один зимний выезд на природу и прогулка среди заснеженных деревьев; но они не тревожили память. А вот осенний лес он недолюбливал – и прежде всего этот лиственный шорох при каждом шаге. Всё-таки года маловато… всё случилось слишком недавно. И эта неприязнь, свидетельствующая о новой, столь несвойственной ему раньше ранимости, волновала – неужели он начал терять способность держать в узде свои чувства? «Это было бы катастрофой. Сейчас эта способность так важна для меня, несмотря на отсутствие внешних угроз и опасностей – или как раз из-за него. В Отделе, живя под постоянным давлением, я не мог позволить самоконтролю ослабнуть хоть немного – и был принужден достичь совершенства в умении справляться с собой. Но если эта сила – плод обстоятельств – изменит мне теперь, когда исчезли эти самые подпитывавшие ее обстоятельства, и я останусь беззащитным перед «тенью, что внутри»?
Я не имею права на слабость и обязан выстоять – ради самого себя, ради полученной возможности стать таким, какой я есть, увидеть свою душу очищенной, без наслоившихся за эти годы оболочек, масок, камуфляжа, оков, брони… заново узнать себя.
Забавно – я никогда не замечал, что звук, с которым высохшие листья, сбитые ветром с веток, падают на те, что опередили их и уже лежат на земле, так похож на шум дождя, журчащий стук крупных тяжелых капель. Почему бы не считать, что это дождь… такие маленькие уловки, случается, помогают продержаться, выиграть время до подхода подкрепления, и в них нет ничего постыдного, – каждый защищается как может.
Но хорошо, что осень кончилась…»
Обыкновенно он шел по дороге и сворачивал в лес в знакомом ему месте – там была тропа, от которой можно было не ждать неприятных сюрпризов. Он не рисковал чересчур отклоняться от нее, но в этот день забрел по целине дальше, чем намеревался поначалу, влекомый всё тем же упрямым, засевшим глубоко в душе неверием в то, что он потерял СТОЛЬКО и что мышцы откажутся подчиниться командам, если понадобятся настоящие усилия. Когда с темнеющего неба повалили огромные сырые хлопья из сотен слепившихся друг с другом снежинок, он самонадеянно попробовал ускорить шаг, чтобы побыстрее выбраться к дороге, – но это было ошибкой, в чем он не замедлил убедиться. Повторилось то же, что с удручающей регулярностью случалось в те дни, когда он заново учился ходить: ноги, скованные болью, попросту перестали держать его и подкосились, и он, не сумев сохранить равновесие, рухнул в снег. Попытался встать, цепляясь за ветки ближайшего куста, достаточно крепкого, чтобы послужить ему опорой – но не смог.
Недоумение, унижение, злость и пугающий своей неизведанностью мерзкий страх, вызванный этим хоть и предсказуемым, но всё же внезапным слабосилием – «что, если я так и не… да нет, не может быть такого…» – заставили стиснуть зубы и напрячься, чтобы унять заколотившую его дрожь.
Он весь взмок от пота, пока барахтался в сугробе, поддавшись минутному приступу паники; справившись же с нею, не стал расстегивать свою толстую стеганую куртку, хотя очень хотелось немножко охладиться – наоборот, поглубже надвинул на голову капюшон и до отказа поднял «молнию» – надо беречь тепло, неизвестно, сколько придется просидеть здесь, прежде чем он опять сможет идти, и сколько времени займет обратный путь… наверняка больше, чем обычно.
Он чутко вслушивался в боль, скрутившую вышедшие из строя ноги, чтобы не упустить момент, когда силы начнут возвращаться в них; после того, как это произошло, он еще посидел немного для верности и наконец отважился подняться. И едва не всхлипнул от облегчения – получилось… «Я стою, иду…»
Он тащился с черепашьей скоростью, то и дело оскальзываясь закоченевшими ногами и впервые с тех пор, как зажили раны, мечтая о втором костыле, – тот был бы сейчас бесценным подспорьем, обеспечивающим устойчивость, которой недоставало сильнее, чем всегда. Переменчивый ветер налетал то сбоку, то спереди, швыряя в лицо снег, который так и норовил забиться за высокий воротник свитера и леденил щеки, тая на мокрой коже. Правда, то, что он про себя называл не иначе как дырой, уже не было таким уязвимым для капризов погоды, как раньше – выстилающая ее молодая кожа укрепилась и загрубела. Время, проведенное среди морского ветра и воды – нет закаливания лучше.
До дому он добрался уже в темноте – приходилось присаживаться для отдыха еще несколько раз. Он продрог до костей, и, ввалившись наконец в прихожую, торопливо стянул с себя промокшие насквозь брюки и облепленную снегом куртку, спеша окунуться в поджидающее его сладостное тепло. Здесь было спасение от мороза и тьмы, его персональный кусок планеты, где он мог делать всё, что захочет; и никто, кроме него, не властен над этим местом. Прибежище, которое всегда ждет тебя.
Горячий душ согрел его, но ненадолго; он чувствовал, что заболевает. Сотрясаясь в ознобе под двумя одеялами и спальным мешком, он с долей иронии думал о том, что эту несуразную простуду можно рассматривать как еще одно доказательство его перевоплощения в мирного обывателя. Как бы странно это ни звучало на первый взгляд, но в некоторых аспектах жизнь в Отделе подпадала под понятие «тепличные условия»: не только лучшие в мире врачи, лекарства и медицинское оборудование, но и самый тщательный и квалифицированный уход, какого можно пожелать; он сполна испытал это на себе. Для тех, кто нужен Отделу, такая помощь всегда была наготове по первому требованию. А сейчас ему предстоит уразуметь смысл выражения «некому подать стакан воды» во всей его бытовой неприкрашенности.
Безусловно, он управится и сам…
Последний раз он болел чуть ли не во время их с сестрой самостоятельного парижского существования – он тогда сэкономил на новой куртке ради зимнего пальто для нее, решив, что еще месяц как-нибудь перебьется; но холода обогнали зарплату. Она страшно боялась, что его отправят в больницу, и поэтому суетилась вокруг него в десять раз больше, чем нужно, даже не пошла на день рождения лучшей подруги – он услышал, как она объясняла той по телефону, что «я правда никак не могу, Мишель простудился, и всё хозяйство осталось на мне… а подарок я тебе принесу завтра в школу…» Она добросовестно старалась повторять всё, что делала мама, когда кто-нибудь из них простывал, возмещая недостаток опыта трогательным усердием, – так что он начал опасаться, что в конце концов утонет в горячем молоке, приправленном медом сверх всякой меры.
Сейчас некому было отпаивать его этой приторной смесью – а он бы не отказался от нее, хотя бы в память о тех временах, где осталось столько дорогого для него. Но в доме не было необходимых ингредиентов – молоко кончилось, а запастись медом на случай болезни ему вообще не приходило в голову.
До чего всё же непривычно такое – плохое самочувствие при абсолютно целом и невредимом теле, когда оно, не простреленное, не избитое, не истекающее кровью, тем не менее подводит тебя из-за какой-то не различимой невооруженным глазом причины….
В кошмарах, терзавших его всю ночь, не содержалось ничего принципиально нового – всё те же падения в некую бездонность, то растянутые на часы, то настолько молниеносные, что пресекалось дыхание, но всегда одинаково неостановимые, как ни сопротивляйся; удушье, жара, давящие серые стены, изнурительный бег по бесчисленным тесным переходам, неотличимым друг от друга, в тщетных поисках воздуха и покоя. Он вырывался из тяжелого муторного сна, и грохот прибоя тотчас же напоминал ему о том, что всё это в прошлом и он свободен. Завывающий над крышей ветер, сосны, царапающие иглистыми ветвями стену, и глухая чернота неба за окном, какой никогда не бывает в городе, присоединялись к голосу океана, всяк на свой лад убеждая в том же самом; но речь волн в общем хоре была самой громкой и понятной, и, послушав с минуту-другую, он вновь засыпал, успокоенный.
К середине следующего дня он кое-как собрался с силами, выдрал себя из постели и сполз вниз на мучительно ноющих от вчерашнего путешествия ногах, чтобы заняться отоплением и вскипятить чаю. Запасов в холодильнике хватит на три-четыре дня, а за этот срок он придет в себя настолько, что сумеет съездить в город.
Конечно, ничто не мешало вызвать врача из Биддефорда или Кеннебанкпорта, а тот, разглядев, что представляет из себя пациент, и узнав, что за ним некому ухаживать, забрал бы его в больницу безо всяких колебаний. Но больницами он был уже сыт по горло и не собирался отправляться туда из-за такой чепухи даже на несколько дней. И не хотелось покидать свой дом.
Почему? Что вообще не давало ему запереть двери и перебраться до весны по примеру соседа в ту же Флориду, к солнцу, теплу и безоблачному небу, вместо того, чтобы мучиться здесь от холодов, сырости и всего того, что они делали с его израненными ногами и головой?
Быть может, всё дело в нетерпении. До этой минуты он и не подозревал, что торопится – торопится обжиться в понравившемся ему месте, обрести корни, накопить впечатления, которые привяжут его к этому дому – чтобы это был ДОМ. Такая связь уже образовалась за эти месяцы бездеятельного слияния с природой, но он, сам того не ведая, страшился ее непрочности. «Привязанность к чему-то материальному», столь опасная раньше – неважно, к человеку или к месту – он осмелился разрешить ее себе, с той настороженной робостью, с которой входил в новую жизнь. ТЕПЕРЬ это не сделает слабым – напротив, даст опору.
Он поправился к ожидаемому сроку, но и не подумал отказываться от вошедших в привычку ежедневных лесных блужданий, хотя и стал вести себя осмотрительнее: он накрепко запомнил этот приступ панического страха – увы, оправданного – который заставил его признать жестокую справедливость корректного эвфемизма «человек с ограниченными возможностями».
* * *
И наконец наступил день, когда можно было сказать: «Перезимовали».
Вместе с весной пришла неудовлетворенность. Зимняя спячка, когда день состоял из прогулки по снежному лесу и бездумного сидения у камина (такой безмятежный домашний огонь – не от взрыва или пожара – из тех невообразимо далеких лет самой первой жизни…), и день был ЗАПОЛНЕН, и к такому времяпрепровождению нечего было добавить – этого становилось мало… он нуждался в чем-то еще и для головы, и для рук.
И одним прекрасным утром он отправился в Бостон, туда, где на гордящихся своей относительной стариной улицах эпохи еще достопамятного Чаепития* расположены лучшие в Америке музыкальные магазины. Этот целенаправленный поход завершился приобретением виолончели; попробовав ее, он понял, как много предстоит восстанавливать – ведь он так давно не играл… «но это, в отличие от другого, ВОССТАНОВИМО, что не может не радовать. Я помню всё, чему когда-то научился, просто прошло столько времени…»
И ноты, как же без них – для начала все те вещи, которые он освоил… а потом ему попалась на глаза букинистическая лавочка, он вспомнил человек на барже с его замечательными древними книгами – и завернул туда.
Он не намеревался ничего покупать – откровенно говоря, и не думал, что дозрел до этого – но, заприметив послевоенное издание Сент-Экзюпери во французском оригинале, первое, где было собрано всё им написанное, не смог оставить его в магазине.
Книга, дожидавшаяся его полвека, была как прикосновение к детству, к его началу и концу – от «Маленького принца» до «Планеты людей». Летчик, который не постеснялся сознаться, что не сумеет нарисовать самолет… разумеется, «Маленький принц» был с рисунками автора, ничьи другие здесь не годились бы. Смешной длинноухий Лис, смахивающий на белку. Роза с ее четырьмя шипами. И страшные-престрашные баобабы.
Жаль, что нет ребенка, которому можно было бы читать это вслух.
Эта мысль изумила его не так сильно, как должна была, – возможность, в которой нет ничего невероятного. Когда-нибудь… кто знает…
Войдя в дом с покупками, столь отличающимися от всего того, что он привозил сюда до сих пор, он прошелся по гостиной и рассмеялся: их некуда было положить… камин, диван перед ним и лампа – вот и всё, что имелось из обстановки. Ее скудость впервые показалась ему чрезмерной, хотя речь шла пока что не об уюте, а о внезапно понадобившихся предметах мебели. И собственный смех почему-то не удивил его – первый за… сколько месяцев? Или лет – если не брать в расчет некоторые особые задания, когда смех был частью маски…
Футляр с виолончелью он поставил в угол, а книге вместе со стопкой нот пришлось выбирать между любым из подоконников и каминной полкой, которая и победила; подоконник – это ветер из открытого окна, треплющий страницы и брызгающий дождем на обложки. А у него в кои-то веки появились вещи, сохранность которых была ему небезразлична.
И отчего бы не изготовить самому эти ставшие необходимыми книжные полки? «Мне не случалось работать с деревом серьезнее, чем требуется для мелкого домашнего ремонта – починить расшатавшийся стол или сломанную табуретку – но я умею обращаться со многими инструментами и, без сомнения, овладею начатками столярного дела к тому времени, когда за первой книгой последуют и другие.»
И он начал читать – по одной-две страницы в день, не больше – после каждой фразы надолго отвлекаясь и уходя в свои мысли.
«Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не всё ли равно!»*
На первых заданиях ему постоянно чудилось, что он седеет. После одного многочасового бдения в обнимку с так и не взорвавшейся бомбой (только неподвижность его и спасла, позволив дождаться высланной на подмогу группы поддержки, где был опытный сапер) он даже постоял перед зеркалом в магазинной витрине, рассматривая свою двадцатитрехлетнюю встрепанную шевелюру в поисках белых волос. Никто из десятков прохожих на этой беспечной улице и не подозревал о его только что миновавшей умственной агонии… Если бы бомба сработала, то от этой витрины и нескольких соседних осталось бы одно расплавленное стекло. Седины не было – и он никак не мог в это поверить. А потом возле той же витрины остановилась симпатичная длинноногая девушка его лет – он лишь сейчас заметил, что это магазин дамского белья, и почувствовал себя полным идиотом – и покосилась на него с кокетливой улыбкой, приглашающей к знакомству. Тут он наконец опомнился и торопливо ушел. Седина так и не появилась – ни на другой день, ни позже – зато за не входившую в план миссии задержку у витрины он получил справедливый выговор от Юргена.
«Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что – и это тоже только на войне – ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от него своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, – это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий…»**
В своей квартире он сотни раз переживал то же самое – и не скучал по ней.
Некоторые места были ему абсолютно чужды, входя в противоречие со всем его душевным опытом – во многом потому, что он не был добровольцем. Никогда не был. Он всего лишь выбрал жизнь однажды – ТАКУЮ жизнь… как и все, попадавшие в Отдел. Он не встречал человека, поступившего по-другому. Многие погибали потом – иногда очень скоро – из-за благоприобретенного равнодушия или отвращения к этой самой жизни; да и самоубийства (а в еще большей степени – попытки, замеченные и пресеченные еще на стадии подготовки или, скорее, готовности) не были уникальным явлением. Но в самом начале все выбирали – жить. И тут он не был исключением из правил.
Уже позже безупречность работы сделалась смыслом и оправданием его существования; он нашел в этой работе то, что могло быть целью, затмевающей все другие, и стоило любых жертв – и есть ли что-то, чего он не отдал?..
Что бы ты ни читал, в конечном итоге ты неосознанно ищешь нечто о себе. И находишь – если автор тебе близок.
Общение с книгой – «давно забытое понятие», как сказал бы Лис. Возвращение к тому, что у тебя было когда-то. Новая жизнь, начатая на новом месте – оказывается, она тоже может содержать элементы возвращения – к себе-прежнему. И просыпается то, что некогда не смогло вырасти и заглохло из-за неподходящих условий. Развитие продолжается…
«Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить – значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко – брать уже готовые души!
Порою кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. <…>
Конечно, сейчас я не испытываю любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.»***
Виолончель покидала свой футляр почти ежедневно. И пальцы, вначале приводившие его в ярость своей чудовищной неловкостью, постепенно становились всё послушнее, как будто пробуждались от долгого сна какие-то крохотные участки нервов, бездействовавшие много лет, и они, в свою очередь, будили те мышцы и сухожилия, которые ответственны за извлечение мелодии из инструмента и ни за что другое. Он так давно не играл, что эти упражнения по своей ожесточенности порой походили на те достопамятные тренировки в медчасти, когда вариант «не выйдет» заранее отвергался, как не принимающийся к рассмотрению. И, так же как и тогда, результаты радовали его – музыка возвращалась… прежде всего в голову. Всё всегда начинается с головы, приходя изнутри. Восстановить в памяти, захотеть, услышать… воскресить. И он побеждал…
Со столярным делом получилось приблизительно то же самое. Он взялся за изучение пособий и руководств так же основательно и методично, как в свое время за предметы университетской программы… и за те дисциплины, которые ему преподавали в Отделе. Переходом к практической части стало оборудование мастерской в пустующем сарае, и терпеливый труд принес желаемые плоды.
Учась, он чувствовал себя помолодевшим. Материал начал поддаваться его рукам, принимая задуманную форму. За семь лет он много работал с металлом – оружие, замки, машины, взрывные устройства, сигнализация – а вот с древесиной почти не имел дела. В самом Отделе было всё, кроме дерева – слишком хрупкого, горючего и ненадежного во многих отношениях; даже мебель сплошь из металла и пластика… кабинет Мэдлин был единственным нарушением общей картины. В том мире дереву была отведена безгласная, малоприметная и незавидная роль легко разрушающегося строительного материала – здание из него проще уничтожить, полагаться на него как на защиту от пуль не следует…
Здесь, в этом доме, затерявшемся между лесом и океаном, он по-новому оценил дерево, те его качества, которые прежде не вызывали интереса.
Оно создает уют уже одним тем, что никогда не бывает таким холодным, как металл, словно сохраняя частичку тепла из тех времен, когда еще было живым. Но, видоизменившись после смерти, оно всё равно остается красивым и полезным, способным приносить радость и тем самым продолжающим свое существование, пусть и в другой форме… «Не то что мы.»
Приятно было делать что-то хорошо не по приказу, а потому что ты сам этого захотел; создавать своими руками нечто вполне материальное – результат, на который ты всегда можешь посмотреть. Он так долго был лишен этого – возможности созидательной работы. Ему доставляли удовольствие точные, строго рассчитанные усилия, неторопливое, размеренное движение инструмента, запахи стружек, лака и восковой пасты, чистота и шелковистая гладкость отшлифованной деревянной поверхности, до которой хочется дотрагиваться снова и снова. Всё это превращалось из нового в родное, одаривая не известным до сей поры удовлетворением, требуя времени, сил и внимания.
* * *
Продолжение следует…
Автор – Инна ЛМ
* * *
За неделю он отдышался, отлежался, приспособился к сложностям своего нового образа передвижения (это относилось не только к ходьбе, но и к вождению машины) и выработал план действий. Начинать поиски дома южнее Бостона не имело смысла – берега заливов Массачусетс и Кейп-Код слишком густо заселены; поэтому он поехал в Бостон, купил там мощный быстрый лендровер и не спеша направился на север вдоль побережья, заглядывая по пути в агентства по торговле недвижимостью.
Ему долго не подворачивалось ничего подходящего. Один дом, более-менее отвечающий его требованиям, оказался чересчур большим и ветхим, другой располагался в людном месте… Он не торопился – ища идеал, нельзя допустить промаха; и спешка здесь противопоказана. К тому времени, как он добрался до Нью-Хемпшира, на заметку были взяты несколько вариантов, но ни один не вызывал желания немедленно осесть именно там. Он уже начал подумывать о том, чтобы попытать счастья по другую сторону континента, в Орегоне – но решил, что не будет разбрасываться и отступит не раньше, чем упрется в границу в Калисе.
И так он очутился в Мэне, на который еще веяло остатками зимних холодов из недалекой Канады, среди темных лесов, где преобладали ели и сосны, и тянущихся на мили широких песчаных пляжей. Дом, о котором он узнал в местном агентстве, ждал его в конце проселочной дороги, поднимавшейся на длинный пологий холм, за которым уже шумел океанский прибой. Дом стоял на открытом месте – лес подступал близко к склону холма, но взобраться на вершину и закрепиться там осмелились только несколько сосен, как будто специально для того, чтобы прикрывать северную стену от канадских ветров. Сосны были старше дома, верхушки их крон поднимались над кровлей, и молодая травка трудолюбиво пробивалась сквозь прошлогоднюю хвою, щедро устилавшую землю.
Метрах в двухстах по другую сторону проселка находился еще один дом – в нем, как сообщили ему, жил старый капитан военно-морского флота в отставке, который всегда проводил осень и зиму у своих родственников во Флориде – соседство вполне приемлемое.
Дом был в превосходном состоянии; прежние владельцы покинули его около года назад. Вся мебель была вывезена, кроме оборудования кухни и ванной, но эта пустота странным образом воодушевляла – полная обещаний, она приглашала приступить к ее преобразованию, выстроить уют и порядок в соответствии со своими представлениями о том, какими они должны быть, – скромный, но вдохновляющий вызов.
Он обошел дом снаружи и остановился на краю обрыва, откуда пустынный берег просматривался в обе стороны до самого горизонта. Ветер гнал к пляжу волны, мутные от взвешенного в воде песка, и он попытался представить себе, что теперь эти звуки будут окружать его постоянно, вместо привычных городских шумов. Временно притягательная экзотика, которая надоест через месяц-другой – или как раз то, что нужно его душе? Не предпочесть ли тишину где-нибудь в лесу?
«Я хочу жить здесь.»
Спуститься на пляж от самого дома было невозможно – тропинка, ведущая вниз, начиналась намного дальше, почти что посередине между обоими домами. Нога человека не ступала на нее с прошлого лета, и весеннее солнце еще не успело просушить покрывающую ее размокшую грязь. Прогуляться по берегу можно будет и завтра…
Уже начало смеркаться, и он вернулся в дом, чтобы осмотреть второй этаж – две большие комнаты. В одной властвовали те самые сосны, концы их ветвей доставали и до того окна, которое выходило на восток. Зато из окон другой был виден, казалось, весь залив Мэн – горизонт отодвинулся, но океан всё равно был у самого лица.
Однажды в молодости, вскоре после того, как он начал работать в Отделе, ему довелось присутствовать в роли официанта на некоем великосветском приеме. О стрельбе, буде таковая начнется, их заранее предупредили бы агенты из наружного наблюдения; и он, курсируя с сервировочной тележкой из кухни в банкетный зал и обратно, думал главным образом о том, что по части неудобства в ношении смокинг оставляет далеко за флагом любые бронежилеты, даже «анти-калашников» пятого класса с пристегнутыми шейной и паховой секциями, – а когда на тебе надето и то, и другое одновременно, жить становится тяжеловато в самом что ни на есть прямом значении этого слова. Дело, конечно, в отсутствии привычки к этим нарядам – и смокинг, и бронежилет он впервые примерил в Отделе…
И, сгружая десерт на один из подведомственных ему столиков, он услышал (и, как оказалось, запомнил) реплику пожилой дамы, аристократическая осанка которой сохранила всю свою прямизну, невзирая на немалый груз бриллиантов и прожитых лет:
– Когда я покупаю новый дом, то руководствуюсь прежде всего видом из окон, поскольку это единственное, что нельзя переделать.
Стоя в своей будущей спальне, он вспоминал эти слова, – безусловно здравый принцип при наличии денег на желаемые переделки.
Сходив к машине за рюкзаком – он возил с собой минимум, нужный для той кочевой жизни, которую вел вот уже полтора месяца – он бросил спальный мешок у стены напротив окна и улегся в него с нетерпением, какого не испытывал давным-давно – скорее бы утро… посмотреть, каким оно будет в этом доме.
Здешний рассвет был ошеломляюще прекрасен. Ночью он просыпался несколько раз, боясь пропустить его; и теперь лежал, надежно укрывшись в мешке от стужи нетопленого дома, и наблюдал, как рассеивается темнота, как небо у самой границы с океаном светлеет, последовательно делаясь пепельно-сиреневым, розовым, золотистым, окрашивая в те же цвета воду, и как появляется солнце, мгновенно выбросившее ослепительную дорожку, соединившую его с берегом.
Тогда он поднялся и вышел в этот свет, прохладу, слабый плеск утихомирившихся за ночь волн и гомон пробудившихся чаек и, с вынужденной медлительностью спустившись по скользкой тропинке, оплывшей за зиму, побрел к воде, увязая в чистом глубоком песке, увлажненном росой. При желании он, пожалуй, мог бы припомнить, когда в последний раз ходил по морскому песку – что это была за операция, и в какой стране, и что он написал в отчете…
«Здесь я сумею… не забыть – но освободиться.»
Он шел вдоль полосы прибоя, пока не устали ноги, а тогда опустился наземь прямо там, где стоял. «Как удобно – что тут, что в лесу… еще один довод в пользу того, чтобы поселиться в этом месте. Садись или ложись где вздумаешь, и никто тебя не увидит…» Он не мог отделаться от чувства стыда за то, что учитывает это.
«Господи, ну когда же я наконец…»
И в этом безлюдье можно ходить без опостылевших очков… достаточно носить их с собой на случай неожиданных встреч.
Он усмехнулся своему смущению – «надо же, какие безделицы тебя заботят… затем наступит пора мучительных колебаний между оттенками краски для пола и стен, полных скрытого драматизма высматриваний какого-нибудь совершенного кресла или неповторимого коврика… В переводе на простой человеческий язык это называется «заниматься собой, своей жизнью». Эдакий тихий гимн повседневности, будням, складывающимся в годы.»
Передохнув, он двинулся в обратный путь, и, когда над обрывом показалась крыша дома, то испытал удивительное чувство – это возвращение впору было назвать возвращением домой… неужели всё из-за того, что он провел тут ночь в спальном мешке на голом полу и полюбовался восходом?
Так или иначе, но он нашел то, что искал; этот дом прямо-таки призывает его, заставляя задуматься о ремонте, обстановке… «проблемах бытового порядка», по определению Мэдлин. И главное то, что ему хочется этим заняться.
* * *
Впервые в жизни он мог выбрать и обустроить себе жилище, руководствуясь исключительно своими вкусами. В детстве он пользовался разумной свободой в том, что касалось оформления его комнаты – и не злоупотреблял этим; когда они с сестрой переехали в Париж, то основополагающими критериями при выборе квартиры были дешевизна и близость к ее школе и его университету; а та квартира, где его поселил Отдел, принадлежала ему в еще меньшей степени, чем предыдущие, и поэтому он не очень-то стремился сделать ее поуютнее. У Симоны время от времени возникали дизайнерские идеи, и в дом привозились то диван, то что-то из посуды, то какой-нибудь замысловатый светильник, который ему следовало немедленно привинтить к стене или потолку в указанном ею месте; но он не разделял ее увлеченности и относился к этим усовершенствованиям с равнодушием, иногда удивлявшим его самого. Быть может, так проявляла себя бессознательная, не умершая до конца надежда на то, что когда-нибудь, в неопределенном будущем он всё-таки уйдет отсюда, неверие – невозможность смириться с тем, что Отдел – это навсегда…
А этот дом – навсегда?
Стремительность, с которой он стал его владельцем и вселился в него, не сказалась на дальнейшем. Не то чтобы его наступательный порыв угас после того, как дом был приведен в мало-мальски пригодный для проживания вид – но жаль было тратить всё время на хозяйственные хлопоты. В спальне появилась кровать, в ванной можно было мыться, а на кухне – хранить продукты и готовить; при его неприхотливости этого вполне хватало для повседневного существования. Всяческие уборки, чистки и покраски подчинялись вдохновению – иногда трудовой энтузиазм сохранялся весь день, а иногда он с самого утра отправлялся обследовать окрестности.
Дни удлинялись, становилось всё теплее; природа одевалась в новую листву и траву, и он, гуляя по берегу, всё чаще пробовал рукой воду – когда же она наконец нагреется настолько, что можно будет купаться.
Возвратившийся из Флориды капитан Джералд Крейторн оказался спокойным и немногословным любителем уединения, которое, видимо, воспринимал как заслуженную награду после службы на флоте. С самого начала знакомства им обоим стало ясно, что никто никому не будет мешать.
Переход к новому образу жизни был нелегок, как ему и предсказывали. Долгожданное лето всё же вызывало стойкое ощущение не в меру затянувшегося отпуска; тело-нервы-мозг слишком хорошо помнили о том, какой великолепно отлаженной системой они были так долго – и еще совсем недавно – и, невзирая на все потрясения, никак не могли согласиться с тем, что их уже не используют так, как прежде. Их бунт принимал разные формы… бывали ночи, когда он внезапно просыпался с совершенно ясной головой, не зная, куда себя девать – ровно треть всей работы, что он сделал за эти семь лет, выпадала на ночь, которая теперь не могла так просто превратиться для него в одно только время отдыха и сна. Организм требовал своей порции ночных нагрузок, и хождения по дому было мало. Вооружившись фонариком и сожалея об отсутствии такой привычной инфракрасной оптики, он спускался на пляж, где можно было не опасаться во что-нибудь врезаться, и утолял свою потребность в движениях и бодрствовании отжиманиями и тем ужасающе неуклюжим и медленным бегом, на который был теперь способен.
Рефлексы восставали против бездеятельности – но с какими предосторожностями приходилось взбираться на ту же приставную лестницу, и сколько раз отрываться от домашних дел из-за того, что больные ноги отказывались работать… Не проходило дня, чтобы он не наткнулся на какое-нибудь новое доказательство того, как мало отныне он может. А сны предлагали утешение – в них он покидал свое ущербное тело и парил в небесах или космической пустоте, где не было ни тяжести, ни боли, ни утомления, и можно было прекрасно обойтись вообще без ног. Такие сны редко завершались приземлениями – чаще всего он вываливался в кровать непосредственно с неба. И это всегда были полеты, так сказать, «в чистом виде», без парашюта, страховочного троса или других устройств, когда-либо державших его в воздухе, хотя такого опыта у него было немало. Они в эти сны не допускались – как нечто чересчур прозаическое и привязывающее к земле.
Легкость, доступную наяву, дарила вода, и он пристрастился к плаванию, благо установилась жаркая погода и весь берег был в его распоряжении. Волны поддерживали его, освобождая от груза собственного тела, возвращая утраченную непринужденность передвижения – приятное разнообразие после сухопутной хромоты. Он вновь чувствовал себя здоровым и сильным, и правды здесь было больше, чем самообольщения – это подтверждал каждый энергичный гребок руками, такими же крепкими и надежными, как и раньше.
Человек, родившийся и выросший в портовом городе, не может быть совсем равнодушен к морю – но то, что творилось с ним сейчас, было открытием заново. Само собой, он не пренебрегал и другими частями своих владений, и много времени проводил в лесу – но, как правило, все его маршруты оканчивались на берегу. Да и прийти домой уже означало увидеть и услышать океан…
Он всё никак не мог насытиться этим открытым пространством, так притягивавшим его. Отлично отдавая себе отчет в том, откуда это берется – нестираемые следы тех дней в медчасти, когда он ПРОВАЛИВАЛСЯ – он, однако, не находил повода для беспокойства. С этим не стоит бороться – пусть всё идет своим чередом, постепенно возвращаясь к норме.
Случалось, что он ночевал на пляже, разостлав свой верный спальник там, куда не добирался прилив. Песок, на котором он лежал, был опорой мягкой и одновременно прочной – под ним была земля, земная твердь – а ветер, овевающий лицо, постоянно напоминал о том, что небо всегда рядом и надо лишь раскрыть веки, чтобы увидеть его.
Вылезти ли в бодрящий холод предрассветного тумана из своего маленького теплого кокона или же дождаться, когда поднимется солнце и стремительно согреет мир, так что внешнее тепло станет привлекательнее того внутреннего, в котором прошла ночь – это зависело только от его прихоти. Свобода проникала в него исподволь, с каждым новым глотком соленого воздуха, порывом ветра, каким-нибудь пустячным выбором вроде направления прогулки или продолжительности заплыва, беспричинно отложенным делом – «почему бы и не прерваться, вернувшись к нему попозже… ведь времени сколько угодно, и всё оно принадлежит мне…»
Так он и встретил осень – осваиваясь с тем укладом, который сам же и избрал для себя и уже выстроил вчерне, – но многое еще предстояло доделать… да хотя бы и в самом доме, как бывает, когда обзаводишься хозяйством с нуля. Дому он стал волей-неволей уделять больше внимания с тех пор, как круглосуточные дожди, пришедшие на смену короткому «индейскому лету», загнали его под крышу, и с купанием пришлось распроститься до будущего года. Тогда-то он и узнал о том, что, как бы безразлично он ни относился к изменениям погоды, у его организма теперь имеется собственное мнение на сей счет. Донимавшие его боли – правда, блаженно слабые отзвуки тех, что были ВНАЧАЛЕ – заставляли чувствовать себя старой увечной развалиной, у которой вечно что-то ноет и ломит то к дождю, то к урагану, то к землетрясению. Это вызывало естественную брезгливость; он не собирался поддаваться своим недомоганиям, пускай и несколько осложняющим жизнь. «Хотя, с другой стороны, надо соблюдать разумную осторожность – установить, что мне по силам, а что нет, и без особой нужды не выходить за рамки. «Беречься» – слово, звучавшее до смешного бессмысленно всего лишь год назад – понятие из самой что ни на есть мирной жизни… а ведь именно такой она и будет. Теперь меня никто не убьет – почти что бессмертие, если сравнить с моим прежним положением, и было бы нелогичной и непростительной глупостью вести себя так, как будто я не ценю этого.»
Но бывали и черные минуты – часы, если быть точным – когда свобода оборачивалась неприкаянностью, а покой – бездельем; боль же оставалась тем, чем была – и вечным напоминанием о прошлом. Он убеждал себя, что это всё из-за нее, из-за того, что она плоховато слушается лекарств, и неутихающий шум океана отдается в голове, да еще никак не получается удобно уложить ноги в постели, хотя она уже превращена в настоящее гнездо из подушек… Но тоска, накатывавшая на него, коренилась не только и не столько в телесных страданиях. ТОТ мир, покинутый навсегда, неохотно отпускал его. Стоило начать засыпать, как сознание наводняли картины былого; дрейфуя на грани между явью и забытьем, он почти машинально планировал какие-то несуществующие операции, разрабатывал схемы, расставлял людей… и всё обрывалось, растаяв под властным натиском сна.
А однажды ночью он проснулся от того, что по лицу текли слёзы. Ощущение какого-то неопределенного неудобства разбудило его и заставило недоуменно вскинуть голову с подушки – вся левая щека была мокрой. Как это нередко бывает, привидевшийся сон забылся в тот же миг, когда вместе со зрением включилось восприятие окружающего мира – и это было к лучшему. Какой прок в том, чтобы помнить кошмары…
Всё еще всхлипывая, он наскоро размял ноги – чтобы только двигались – дохромал до ванной и плеснул в лицо полную пригоршню холодной воды, спеша избавиться от следов своей невольной слабости – или что это было.
«Такие слёзы – беспричинные, во сне – НЕ СЧИТАЮТСЯ, но уже нельзя отрицать, что я научился плакать… умение, без которого я бы превосходно обошелся в любой из жизней.»
После этого сон долго не шел к нему. Это ведь не из-за того, что я боюсь повторения, уговаривал он себя. Но есть вещи, которых стесняешься даже перед самим собой – из гордости и самоуважения…
Незаметно исполнился год с ТОГО дня. Дня гибели Симоны и его неудавшейся попытки последовать за ней. Дня, изменившего так много. Он не испытывал трепетного почтения к датам, относясь к календарю как к некоей принятой для общей пользы условности, и годовщины событий, пусть и важных в момент их свершения, не пробуждали у него никаких эмоций; праздники же с неотделимыми от них ожиданиями чудес и еще не изведанных удовольствий остались в далеком прошлом вместе с детством. К тому же были и другие дни, не менее знаменательные в его судьбе – день ухода из Отдела, запечатлевшийся в памяти тысячью деталей; и день, когда он впервые вошел в этот дом… это добавляло неразберихи в его личном календаре.
Поэтому-то и не было никакого вечера воспоминаний, по сути представляющего собой не что иное, как мучительные попытки воскресить пережитую боль, к которым подталкивает неизбывное чувство вины. Он просто отметил, что вот прошел этот год… год выздоровления. И с неплохими итогами, надо признаться.
Он не мог бы сказать, что о многом передумал за этот год – в иные дни он только и делал, что не делал ровным счетом ничего, кроме того, что дышал, лежа на песке или в траве и глядя в небо – лежал часами, меняя позу лишь тогда, когда уставала спина. Иногда эта роскошь становилась почти что избыточной для него, пока еще не вполне привычного к обрушившемуся на него изобилию – изобилию покоя. Одиночества. Безопасности. Отсутствия тревог.
Смятение находило испробованный выход, тот же самый, который так хорошо помогал при ночных пробуждениях – физическая нагрузка, самая примитивная и безжалостная… бежать, пока не упадешь. А тогда уже вспомнить совет «не перегружаться» – и упрекнуть себя за бессмысленные действия, пообещав, что впредь постараешься справляться со своими переживаниями так, как подобает – силой воли, и ничем другим. Внутренняя дисциплина не должна расшатываться.
Но, несмотря на решимость вести себя благоразумно, он тем не менее ухитрился простудиться глупейшим образом, попав под мокрый снегопад. Зима принесла с собой шторма, и он частенько уходил подальше в лес, чтобы немного отдохнуть от несмолкаемого рева разбушевавшейся Атлантики, которую были не в силах усмирить здешние морозы. На берегу снег не держался – ветер сдувал его с мерзлого песка, принося взамен пену, сорванную с гребней волн; но стоило отойти в лес, под защиту деревьев, как начинались глубокие сугробы. Белизна и тишина успокаивали, и голова переставала ныть.
Среди выполненных им заданий был не один зимний выезд на природу и прогулка среди заснеженных деревьев; но они не тревожили память. А вот осенний лес он недолюбливал – и прежде всего этот лиственный шорох при каждом шаге. Всё-таки года маловато… всё случилось слишком недавно. И эта неприязнь, свидетельствующая о новой, столь несвойственной ему раньше ранимости, волновала – неужели он начал терять способность держать в узде свои чувства? «Это было бы катастрофой. Сейчас эта способность так важна для меня, несмотря на отсутствие внешних угроз и опасностей – или как раз из-за него. В Отделе, живя под постоянным давлением, я не мог позволить самоконтролю ослабнуть хоть немного – и был принужден достичь совершенства в умении справляться с собой. Но если эта сила – плод обстоятельств – изменит мне теперь, когда исчезли эти самые подпитывавшие ее обстоятельства, и я останусь беззащитным перед «тенью, что внутри»?
Я не имею права на слабость и обязан выстоять – ради самого себя, ради полученной возможности стать таким, какой я есть, увидеть свою душу очищенной, без наслоившихся за эти годы оболочек, масок, камуфляжа, оков, брони… заново узнать себя.
Забавно – я никогда не замечал, что звук, с которым высохшие листья, сбитые ветром с веток, падают на те, что опередили их и уже лежат на земле, так похож на шум дождя, журчащий стук крупных тяжелых капель. Почему бы не считать, что это дождь… такие маленькие уловки, случается, помогают продержаться, выиграть время до подхода подкрепления, и в них нет ничего постыдного, – каждый защищается как может.
Но хорошо, что осень кончилась…»
Обыкновенно он шел по дороге и сворачивал в лес в знакомом ему месте – там была тропа, от которой можно было не ждать неприятных сюрпризов. Он не рисковал чересчур отклоняться от нее, но в этот день забрел по целине дальше, чем намеревался поначалу, влекомый всё тем же упрямым, засевшим глубоко в душе неверием в то, что он потерял СТОЛЬКО и что мышцы откажутся подчиниться командам, если понадобятся настоящие усилия. Когда с темнеющего неба повалили огромные сырые хлопья из сотен слепившихся друг с другом снежинок, он самонадеянно попробовал ускорить шаг, чтобы побыстрее выбраться к дороге, – но это было ошибкой, в чем он не замедлил убедиться. Повторилось то же, что с удручающей регулярностью случалось в те дни, когда он заново учился ходить: ноги, скованные болью, попросту перестали держать его и подкосились, и он, не сумев сохранить равновесие, рухнул в снег. Попытался встать, цепляясь за ветки ближайшего куста, достаточно крепкого, чтобы послужить ему опорой – но не смог.
Недоумение, унижение, злость и пугающий своей неизведанностью мерзкий страх, вызванный этим хоть и предсказуемым, но всё же внезапным слабосилием – «что, если я так и не… да нет, не может быть такого…» – заставили стиснуть зубы и напрячься, чтобы унять заколотившую его дрожь.
Он весь взмок от пота, пока барахтался в сугробе, поддавшись минутному приступу паники; справившись же с нею, не стал расстегивать свою толстую стеганую куртку, хотя очень хотелось немножко охладиться – наоборот, поглубже надвинул на голову капюшон и до отказа поднял «молнию» – надо беречь тепло, неизвестно, сколько придется просидеть здесь, прежде чем он опять сможет идти, и сколько времени займет обратный путь… наверняка больше, чем обычно.
Он чутко вслушивался в боль, скрутившую вышедшие из строя ноги, чтобы не упустить момент, когда силы начнут возвращаться в них; после того, как это произошло, он еще посидел немного для верности и наконец отважился подняться. И едва не всхлипнул от облегчения – получилось… «Я стою, иду…»
Он тащился с черепашьей скоростью, то и дело оскальзываясь закоченевшими ногами и впервые с тех пор, как зажили раны, мечтая о втором костыле, – тот был бы сейчас бесценным подспорьем, обеспечивающим устойчивость, которой недоставало сильнее, чем всегда. Переменчивый ветер налетал то сбоку, то спереди, швыряя в лицо снег, который так и норовил забиться за высокий воротник свитера и леденил щеки, тая на мокрой коже. Правда, то, что он про себя называл не иначе как дырой, уже не было таким уязвимым для капризов погоды, как раньше – выстилающая ее молодая кожа укрепилась и загрубела. Время, проведенное среди морского ветра и воды – нет закаливания лучше.
До дому он добрался уже в темноте – приходилось присаживаться для отдыха еще несколько раз. Он продрог до костей, и, ввалившись наконец в прихожую, торопливо стянул с себя промокшие насквозь брюки и облепленную снегом куртку, спеша окунуться в поджидающее его сладостное тепло. Здесь было спасение от мороза и тьмы, его персональный кусок планеты, где он мог делать всё, что захочет; и никто, кроме него, не властен над этим местом. Прибежище, которое всегда ждет тебя.
Горячий душ согрел его, но ненадолго; он чувствовал, что заболевает. Сотрясаясь в ознобе под двумя одеялами и спальным мешком, он с долей иронии думал о том, что эту несуразную простуду можно рассматривать как еще одно доказательство его перевоплощения в мирного обывателя. Как бы странно это ни звучало на первый взгляд, но в некоторых аспектах жизнь в Отделе подпадала под понятие «тепличные условия»: не только лучшие в мире врачи, лекарства и медицинское оборудование, но и самый тщательный и квалифицированный уход, какого можно пожелать; он сполна испытал это на себе. Для тех, кто нужен Отделу, такая помощь всегда была наготове по первому требованию. А сейчас ему предстоит уразуметь смысл выражения «некому подать стакан воды» во всей его бытовой неприкрашенности.
Безусловно, он управится и сам…
Последний раз он болел чуть ли не во время их с сестрой самостоятельного парижского существования – он тогда сэкономил на новой куртке ради зимнего пальто для нее, решив, что еще месяц как-нибудь перебьется; но холода обогнали зарплату. Она страшно боялась, что его отправят в больницу, и поэтому суетилась вокруг него в десять раз больше, чем нужно, даже не пошла на день рождения лучшей подруги – он услышал, как она объясняла той по телефону, что «я правда никак не могу, Мишель простудился, и всё хозяйство осталось на мне… а подарок я тебе принесу завтра в школу…» Она добросовестно старалась повторять всё, что делала мама, когда кто-нибудь из них простывал, возмещая недостаток опыта трогательным усердием, – так что он начал опасаться, что в конце концов утонет в горячем молоке, приправленном медом сверх всякой меры.
Сейчас некому было отпаивать его этой приторной смесью – а он бы не отказался от нее, хотя бы в память о тех временах, где осталось столько дорогого для него. Но в доме не было необходимых ингредиентов – молоко кончилось, а запастись медом на случай болезни ему вообще не приходило в голову.
До чего всё же непривычно такое – плохое самочувствие при абсолютно целом и невредимом теле, когда оно, не простреленное, не избитое, не истекающее кровью, тем не менее подводит тебя из-за какой-то не различимой невооруженным глазом причины….
В кошмарах, терзавших его всю ночь, не содержалось ничего принципиально нового – всё те же падения в некую бездонность, то растянутые на часы, то настолько молниеносные, что пресекалось дыхание, но всегда одинаково неостановимые, как ни сопротивляйся; удушье, жара, давящие серые стены, изнурительный бег по бесчисленным тесным переходам, неотличимым друг от друга, в тщетных поисках воздуха и покоя. Он вырывался из тяжелого муторного сна, и грохот прибоя тотчас же напоминал ему о том, что всё это в прошлом и он свободен. Завывающий над крышей ветер, сосны, царапающие иглистыми ветвями стену, и глухая чернота неба за окном, какой никогда не бывает в городе, присоединялись к голосу океана, всяк на свой лад убеждая в том же самом; но речь волн в общем хоре была самой громкой и понятной, и, послушав с минуту-другую, он вновь засыпал, успокоенный.
К середине следующего дня он кое-как собрался с силами, выдрал себя из постели и сполз вниз на мучительно ноющих от вчерашнего путешествия ногах, чтобы заняться отоплением и вскипятить чаю. Запасов в холодильнике хватит на три-четыре дня, а за этот срок он придет в себя настолько, что сумеет съездить в город.
Конечно, ничто не мешало вызвать врача из Биддефорда или Кеннебанкпорта, а тот, разглядев, что представляет из себя пациент, и узнав, что за ним некому ухаживать, забрал бы его в больницу безо всяких колебаний. Но больницами он был уже сыт по горло и не собирался отправляться туда из-за такой чепухи даже на несколько дней. И не хотелось покидать свой дом.
Почему? Что вообще не давало ему запереть двери и перебраться до весны по примеру соседа в ту же Флориду, к солнцу, теплу и безоблачному небу, вместо того, чтобы мучиться здесь от холодов, сырости и всего того, что они делали с его израненными ногами и головой?
Быть может, всё дело в нетерпении. До этой минуты он и не подозревал, что торопится – торопится обжиться в понравившемся ему месте, обрести корни, накопить впечатления, которые привяжут его к этому дому – чтобы это был ДОМ. Такая связь уже образовалась за эти месяцы бездеятельного слияния с природой, но он, сам того не ведая, страшился ее непрочности. «Привязанность к чему-то материальному», столь опасная раньше – неважно, к человеку или к месту – он осмелился разрешить ее себе, с той настороженной робостью, с которой входил в новую жизнь. ТЕПЕРЬ это не сделает слабым – напротив, даст опору.
Он поправился к ожидаемому сроку, но и не подумал отказываться от вошедших в привычку ежедневных лесных блужданий, хотя и стал вести себя осмотрительнее: он накрепко запомнил этот приступ панического страха – увы, оправданного – который заставил его признать жестокую справедливость корректного эвфемизма «человек с ограниченными возможностями».
* * *
И наконец наступил день, когда можно было сказать: «Перезимовали».
Вместе с весной пришла неудовлетворенность. Зимняя спячка, когда день состоял из прогулки по снежному лесу и бездумного сидения у камина (такой безмятежный домашний огонь – не от взрыва или пожара – из тех невообразимо далеких лет самой первой жизни…), и день был ЗАПОЛНЕН, и к такому времяпрепровождению нечего было добавить – этого становилось мало… он нуждался в чем-то еще и для головы, и для рук.
И одним прекрасным утром он отправился в Бостон, туда, где на гордящихся своей относительной стариной улицах эпохи еще достопамятного Чаепития* расположены лучшие в Америке музыкальные магазины. Этот целенаправленный поход завершился приобретением виолончели; попробовав ее, он понял, как много предстоит восстанавливать – ведь он так давно не играл… «но это, в отличие от другого, ВОССТАНОВИМО, что не может не радовать. Я помню всё, чему когда-то научился, просто прошло столько времени…»
И ноты, как же без них – для начала все те вещи, которые он освоил… а потом ему попалась на глаза букинистическая лавочка, он вспомнил человек на барже с его замечательными древними книгами – и завернул туда.
Он не намеревался ничего покупать – откровенно говоря, и не думал, что дозрел до этого – но, заприметив послевоенное издание Сент-Экзюпери во французском оригинале, первое, где было собрано всё им написанное, не смог оставить его в магазине.
Книга, дожидавшаяся его полвека, была как прикосновение к детству, к его началу и концу – от «Маленького принца» до «Планеты людей». Летчик, который не постеснялся сознаться, что не сумеет нарисовать самолет… разумеется, «Маленький принц» был с рисунками автора, ничьи другие здесь не годились бы. Смешной длинноухий Лис, смахивающий на белку. Роза с ее четырьмя шипами. И страшные-престрашные баобабы.
Жаль, что нет ребенка, которому можно было бы читать это вслух.
Эта мысль изумила его не так сильно, как должна была, – возможность, в которой нет ничего невероятного. Когда-нибудь… кто знает…
Войдя в дом с покупками, столь отличающимися от всего того, что он привозил сюда до сих пор, он прошелся по гостиной и рассмеялся: их некуда было положить… камин, диван перед ним и лампа – вот и всё, что имелось из обстановки. Ее скудость впервые показалась ему чрезмерной, хотя речь шла пока что не об уюте, а о внезапно понадобившихся предметах мебели. И собственный смех почему-то не удивил его – первый за… сколько месяцев? Или лет – если не брать в расчет некоторые особые задания, когда смех был частью маски…
Футляр с виолончелью он поставил в угол, а книге вместе со стопкой нот пришлось выбирать между любым из подоконников и каминной полкой, которая и победила; подоконник – это ветер из открытого окна, треплющий страницы и брызгающий дождем на обложки. А у него в кои-то веки появились вещи, сохранность которых была ему небезразлична.
И отчего бы не изготовить самому эти ставшие необходимыми книжные полки? «Мне не случалось работать с деревом серьезнее, чем требуется для мелкого домашнего ремонта – починить расшатавшийся стол или сломанную табуретку – но я умею обращаться со многими инструментами и, без сомнения, овладею начатками столярного дела к тому времени, когда за первой книгой последуют и другие.»
И он начал читать – по одной-две страницы в день, не больше – после каждой фразы надолго отвлекаясь и уходя в свои мысли.
«Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не всё ли равно!»*
На первых заданиях ему постоянно чудилось, что он седеет. После одного многочасового бдения в обнимку с так и не взорвавшейся бомбой (только неподвижность его и спасла, позволив дождаться высланной на подмогу группы поддержки, где был опытный сапер) он даже постоял перед зеркалом в магазинной витрине, рассматривая свою двадцатитрехлетнюю встрепанную шевелюру в поисках белых волос. Никто из десятков прохожих на этой беспечной улице и не подозревал о его только что миновавшей умственной агонии… Если бы бомба сработала, то от этой витрины и нескольких соседних осталось бы одно расплавленное стекло. Седины не было – и он никак не мог в это поверить. А потом возле той же витрины остановилась симпатичная длинноногая девушка его лет – он лишь сейчас заметил, что это магазин дамского белья, и почувствовал себя полным идиотом – и покосилась на него с кокетливой улыбкой, приглашающей к знакомству. Тут он наконец опомнился и торопливо ушел. Седина так и не появилась – ни на другой день, ни позже – зато за не входившую в план миссии задержку у витрины он получил справедливый выговор от Юргена.
«Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишить рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что – и это тоже только на войне – ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от него своею способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, – это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий…»**
В своей квартире он сотни раз переживал то же самое – и не скучал по ней.
Некоторые места были ему абсолютно чужды, входя в противоречие со всем его душевным опытом – во многом потому, что он не был добровольцем. Никогда не был. Он всего лишь выбрал жизнь однажды – ТАКУЮ жизнь… как и все, попадавшие в Отдел. Он не встречал человека, поступившего по-другому. Многие погибали потом – иногда очень скоро – из-за благоприобретенного равнодушия или отвращения к этой самой жизни; да и самоубийства (а в еще большей степени – попытки, замеченные и пресеченные еще на стадии подготовки или, скорее, готовности) не были уникальным явлением. Но в самом начале все выбирали – жить. И тут он не был исключением из правил.
Уже позже безупречность работы сделалась смыслом и оправданием его существования; он нашел в этой работе то, что могло быть целью, затмевающей все другие, и стоило любых жертв – и есть ли что-то, чего он не отдал?..
Что бы ты ни читал, в конечном итоге ты неосознанно ищешь нечто о себе. И находишь – если автор тебе близок.
Общение с книгой – «давно забытое понятие», как сказал бы Лис. Возвращение к тому, что у тебя было когда-то. Новая жизнь, начатая на новом месте – оказывается, она тоже может содержать элементы возвращения – к себе-прежнему. И просыпается то, что некогда не смогло вырасти и заглохло из-за неподходящих условий. Развитие продолжается…
«Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде ничего не подозревал. Жить – значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко – брать уже готовые души!
Порою кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. <…>
Конечно, сейчас я не испытываю любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.»***
Виолончель покидала свой футляр почти ежедневно. И пальцы, вначале приводившие его в ярость своей чудовищной неловкостью, постепенно становились всё послушнее, как будто пробуждались от долгого сна какие-то крохотные участки нервов, бездействовавшие много лет, и они, в свою очередь, будили те мышцы и сухожилия, которые ответственны за извлечение мелодии из инструмента и ни за что другое. Он так давно не играл, что эти упражнения по своей ожесточенности порой походили на те достопамятные тренировки в медчасти, когда вариант «не выйдет» заранее отвергался, как не принимающийся к рассмотрению. И, так же как и тогда, результаты радовали его – музыка возвращалась… прежде всего в голову. Всё всегда начинается с головы, приходя изнутри. Восстановить в памяти, захотеть, услышать… воскресить. И он побеждал…
Со столярным делом получилось приблизительно то же самое. Он взялся за изучение пособий и руководств так же основательно и методично, как в свое время за предметы университетской программы… и за те дисциплины, которые ему преподавали в Отделе. Переходом к практической части стало оборудование мастерской в пустующем сарае, и терпеливый труд принес желаемые плоды.
Учась, он чувствовал себя помолодевшим. Материал начал поддаваться его рукам, принимая задуманную форму. За семь лет он много работал с металлом – оружие, замки, машины, взрывные устройства, сигнализация – а вот с древесиной почти не имел дела. В самом Отделе было всё, кроме дерева – слишком хрупкого, горючего и ненадежного во многих отношениях; даже мебель сплошь из металла и пластика… кабинет Мэдлин был единственным нарушением общей картины. В том мире дереву была отведена безгласная, малоприметная и незавидная роль легко разрушающегося строительного материала – здание из него проще уничтожить, полагаться на него как на защиту от пуль не следует…
Здесь, в этом доме, затерявшемся между лесом и океаном, он по-новому оценил дерево, те его качества, которые прежде не вызывали интереса.
Оно создает уют уже одним тем, что никогда не бывает таким холодным, как металл, словно сохраняя частичку тепла из тех времен, когда еще было живым. Но, видоизменившись после смерти, оно всё равно остается красивым и полезным, способным приносить радость и тем самым продолжающим свое существование, пусть и в другой форме… «Не то что мы.»
Приятно было делать что-то хорошо не по приказу, а потому что ты сам этого захотел; создавать своими руками нечто вполне материальное – результат, на который ты всегда можешь посмотреть. Он так долго был лишен этого – возможности созидательной работы. Ему доставляли удовольствие точные, строго рассчитанные усилия, неторопливое, размеренное движение инструмента, запахи стружек, лака и восковой пасты, чистота и шелковистая гладкость отшлифованной деревянной поверхности, до которой хочется дотрагиваться снова и снова. Всё это превращалось из нового в родное, одаривая не известным до сей поры удовлетворением, требуя времени, сил и внимания.
* * *
Продолжение следует…
Нет слов...  Выше всяческих похвал... *склоняясь перед автором в глубоком реверансе*
Выше всяческих похвал... *склоняясь перед автором в глубоком реверансе*  ...
...
Такие вещи надо бы сразу целиком... Это ж сущая пытка - ждать...
Такие вещи надо бы сразу целиком... Это ж сущая пытка - ждать...
 Martisha (Четверг, 02 декабря 2004, 14:30:12) писал:
Martisha (Четверг, 02 декабря 2004, 14:30:12) писал:
Хорошая новость! Ещы когда будет узнать и считай жизнь прошла не зря! 

0 посетителей читают эту тему: 0 участников и 0 гостей

 Вход
Вход Регистрация
Регистрация Правила_Сообщества
Правила_Сообщества


 Четверг, 17 июня 2004, 12:01:16
Четверг, 17 июня 2004, 12:01:16



 Наверх
Наверх